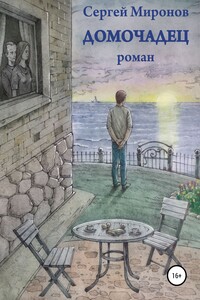Песчаная жизнь | страница 20
Я вжимаюсь в Дану. Нащупываю её грудь, и прямо через одежду впиваюсь в нее зубами. Чувствую вкус молока. Орущий до посинения ребенок во мне замолкает. По венам тепло. В груди счастье.
— Мама, я люблю тебя!
— Что?!
— Дана, я люблю тебя!
Я точно — двинутый. Точно — что-то там по Фрейду!
Я гулял как-то странно с Данной. Все больше по каким-то подворотням. Прогуливаться с ней на Манто мне было тягостно. Все норовил выдернуть из её руки свою руку. Мне кажется, что я не хотел, чтобы нас видели вместе. Почему, я сам не знаю.
Когда уже темнело, провожал её до подъезда, и там мы целовались. Жевались. Сладостно. Теряя ощущения времени и пространства. Когда приходил в себя, я был уже почти у собственного дома. Веют сквозняки, моя ширинка неизменно расстегнута.
Нет, я уверен, что я был счастливым ребенком. Мне помниться, несмотря ни на что, чувство нежности — теперь превратившеесяв уксусную кислоту — пью маленькими глотками — морщусь вначале, потом выворачивает наизнанку.
Фотография: мама папа молодые, целуются на балконе, на линии горизонта, прически у них странные, советские, но у отца уже видна пусть маленькая, но проплешина, мама закрыла глаза, фотограф, быть может, тоже выпивший смеётся и улюлюкает, а им все посрано.
Разглядывая сейчас свои голые ноги, здесь в два-тридцать четыре часа ночи, я поражаюсь насколько мы с отцом все же похожи.
Ноги кривые, тонкие, волосатые. Такие ноги любят женщины. Мать смеялась нам вдогонку, находя сходство в наших походках, и в том, как не заправлены сзади рубашки.
Отец, часто отправляясь по рюмочным, не противясь моему присутствию рядом, говорил, быть может, через чур громко, чтоб девушкам идущим впереди, обязательно что-нибудь да слышалось:
— Как тебе эти ножки, сын?
— Нечего! — отвечал я довольный.
— А по-моему немного угловаты.
Его оценки смягчались на пути обратном. Раскрасневшийся, жизнерадостный, отец цеплял женщин, что за тридцать, говорил:
— Привет. Как дела, милая?
Они отвечали:
— Замечательно, милый, — улыбались и отыскивали для меня конфеты.
Я спрашивал:
— Ты знаешь их?
— Нет, — отвечал и, довольный, шел дальше.
Маме мы дарили макароны и партизанами переглядывались.
После, взрослея, с друзьями и в одиночестве, я улыбался девушкам, говорил в юной нетрезвости:
— Как дела, милая?
Не отвечали. Шли, виляя незрелыми бедрами на узловатых ногах. Сказочно.
А на других фотографиях утро. Мать курит. На мне, на спине, спит сиамская кошка. Отца нет. Он просто за кадром. Он фотографирует. Да, да — вот его тень, падающая от солнечного света в спину, тень на моей кровати, прикасающаяся к вылезшей из-под одеяла голой пятке.