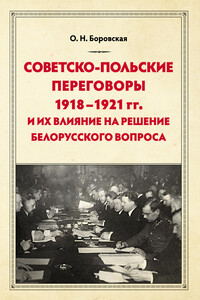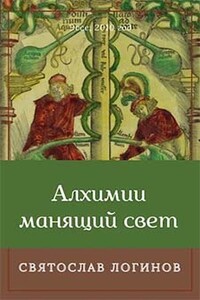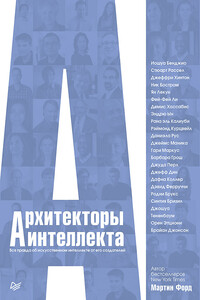Русский Монпарнас. Парижская проза 1920–1930-х годов в контексте транснационального модернизма | страница 22
«Путешествие в глубь ночи» как бы очерчивает пределы того порочного круга, в котором волей-неволей должны жить послевоенные поколения. […] Путешествие в глубь ночи – наш путь. Быть может, гонимому жизнью существу мир только кажется таким безблагодатным, – однако немногим бы разнилась от книги Селина современная русская книга, если бы она была написана. Такой русской книги еще нет. […] Но в статьях, в стихах и особенно в высказываниях с глазу на глаз, в разговорах многих наших молодых авторов даны все составные элементы того чувства, которое делает героя Селина – Бардамю если не героем, то демоном нашего времени[62].
Адамович отметил, что своим успехом эта «правдивая», «огромная» и «мрачная» книга, с ее безжалостным отношением к человечеству, обязана упадку интереса к психологическому роману, который одно время культивировали последователи Пруста: «С появлением книги Селина произошло нечто вроде реванша Золя над Прустом […] Только это уже не тот Золя […] а Золя, отравленный Прустом, многое узнавший и понявший, растерявший свою былую веру и свой энтузиазм»[63]. Примечательно, что в единственном своем публичном выступлении, «Похвала Золя», которое состоялось в Медане в 1933 году, Селин прежде всего сосредоточился на различиях между натурализмом и современной литературой[64]. В другой своей статье Адамович настаивает, что своей «анархичностью» и «хмельной безнадежностью» книга Селина выражает некоторые исконные черты русского духа:
[Е]го удивительная книга принадлежит к тем, которые в русском сознании сразу воспринимаются как нечто «свое» […] дело, по-видимому, в подчеркнутой правдивости, в тоне, родственном русскому стремлению непременно говорить о «самом важном» и в каком-то пренебрежительном отношении ко всему, что не может быть под категорию «самого важного» или «самого правдивого» подведено