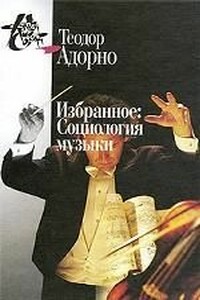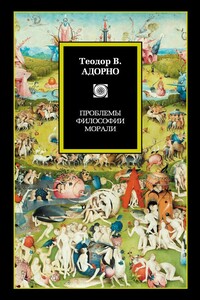Minima Moralia. Размышления из поврежденной жизни | страница 103
96. Дворец Януса. Если рассматривать систему культурной индустрии с большой всемирно-исторической дистанции, то ее следовало бы определить как планомерную эксплуатацию древнейшего разрыва между человеком и культурой. Двойственность прогресса, который всегда одновременно усиливал и потенциал свободы, и действительность угнетения, привела к тому, что народы всё более оказывались во власти общественной организации и подчинения природы, но при этом из-за принуждения, которое оказывала на них культура, лишались способности понять то, в чем понятие культуры шире подобной интеграции. Человеку стало чуждо человеческое в культуре – первое, что отстаивает его позицию в противоборстве с миром. Люди объединяются с миром против себя, и наиболее чуждое им – повсеместное присутствие товаров, превращение людей в довесок машинерии – оборачивается в их глазах иллюзией близости. Великие произведения искусства и философские построения остались непонятыми не из-за их чрезмерной отдаленности от ядра человеческого опыта, а по причине прямо противоположной, и само это непонимание легко вывести из слишком отчетливого понимания: стыда из-за причастности ко всеобщей несправедливости, который бы усилился до непреодолимых масштабов, стоит только позволить себе понять. Вот они и цепляются за то, что издевается над ними, подтверждая искалеченность образа их сущности посредством гладкости своего собственного образа. Всё время существования городской цивилизации именно благодаря подобной неизбежной слепоте вели свое паразитарное существование прислужники существующего порядка вещей: поздняя аттическая комедия и эллинистическое прикладное искусство – это уже китч, хотя они еще и не владеют техникой механического воспроизведения и не обладают теми промышленными устройствами, прообраз которых, может показаться, вызывают к жизни развалины Помпей. Когда читаешь развлекательные романы столетней давности, например Купера, то обнаруживаешь в них зачатки всей голливудской схемы. Стагнация культурной индустрии, вероятно, не стала результатом ее монополизации, но была с самого начала свойственна так называемому развлечению. Китч – это та структура инвариантов, которую философская ложь приписывает своим пафосным прожектам. В них ничто не должно принципиально меняться, поскольку вся эта бессмыслица призвана вдолбить человечеству в голову, что меняться вообще ничто не должно. Однако пока развитие цивилизации шло своим ходом анонимно и без всякого плана, объективный дух не осознавал этого элемента варварства как необходимо ему самому присущего. Пребывая в заблуждении, будто он непосредственно способствует свободе там, где он опосредовал отношения господства, он по меньшей мере не опускался до того, чтобы вносить непосредственный вклад в его воспроизводство. Китч, сопровождавший объективный дух как тень, он яростно клеймил; правда, в ярости этой вновь обретает выражение нечистая совесть высокой культуры, догадывающейся, что под гнетом отношений господства она вовсе таковой не является, – и китч напоминает ей о ее собственной чудовищности. Ныне, поскольку сознание господствующих начинает совпадать с совокупной тенденцией общества, напряженность между культурой и китчем ослабевает. Культура больше не волочит бессильно за собой своего презренного врага, а берет его под свой контроль. Управляя всем человечеством, она управляет и разрывом между человечеством и культурой. Даже над грубостью, тупостью и ограниченностью, которыми объективно наделяются угнетенные, с субъективной суверенностью властвует юмор. Ничто точнее не описывает это одновременно цельное и антагонистическое состояние, чем такое встраивание варварства в культуру. Однако при этом воля властителей может основываться на мировой воле. Их массовое общество не только произвело бросовый товар для клиентов, но и породило самих клиентов. Эти клиенты изголодались по кино, по радио и иллюстрированным журналам; всё, что в них оставалось неудовлетворенным из-за общественного устройства, которое отбирает, не давая взамен обещанного, только и ждало, чтобы тюремщик вспомнил о них и принялся наконец левой рукой подавать им для утоления голода камни, правой рукой отнимая хлеб. Вот уже четверть века старые буржуа, которые должны бы помнить иные времена, без всякого сопротивления стремятся в объятия культурной индустрии, очень точно рассчитавшей, что требуется алчущим сердцам. У них нет основания сокрушаться по поводу молодежи, которую фашизм испортил до мозга костей. Бессубъектные, лишенные культурного наследия – вот подлинные наследники культуры.