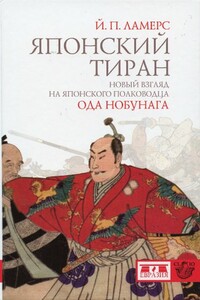Всемирная история. Российская империя | страница 54
Переходим к Литве, и на с. 55 читаем:
«Великое княжество Литовское, Жемоитское и Русское в древнерусских летописях и в современной литературе именуют Литвой. Сами жители княжества называли его Русью. И на то были основания: в состав Великого княжества входили почти все (выделение мое – К. Г.) крупные политические и экономические центры киевской Руси».
Далее авторы описывают героическую борьбу жителей княжества на двух фронтах – против Ордена и против Орды. Это – прогрессивный момент, поскольку традиционно в учебниках описывалась борьба исключительно «Северо-Востока Руси», который боролся не так интенсивно (хотя попытки бывали), да и выступал скорее как представитель Орды, а не ее противник. Делам Литвы и Даниила Галицкого уделено должное внимание. «Таким образом, к середине 60-х гг. ХІІІ в. западнорусские и литовские земли слились в достаточно мощное государственное объединение. Несмотря на династические, этнические и конфессиональные противоречия, оно представляло собой устойчивый политический союз» (с. 56). Осталось выяснить: а что случилось с «единой древнерусской народностью»? Исходя из принципа употребления этого понятия авторами, она как раз должна была укрепиться в пределах Великого княжества Литовского, ибо, в отличие от периода распада Руси, когда единство народности «сохранялось», русские земли теперь обрели и единство политическое. Но эволюции этой народности тоже попадают в число «фигур умолчания». Причины этого открываются читателю в следующем параграфе – «Борьба за политическую гегемонию в Северо-Восточной Руси».
Из него можно узнать, что «страна восстанавливала силы». Речь, видимо, идет о Руси вообще, поскольку сей процесс «особенно быстро шел на Северо-Востоке». Потом мы с удивлением узнаем, что в этом «сказывалась удаленность от ордынцев» и сложные природные условия («обилие непроходимых лесов и топей»). Хотя некоторое знакомство с географией (например, по картам в этом учебнике) позволяет думать, что «Северо-Восток» находился все же ближе к Орде, во всяком случае, к ее столице, чем Великое княжество Литовское. Суть все же, видимо, не в расстоянии, а в теплых отношениях князей с этой самой Ордой. Жители большей части Руси (в Литве) страдали, испытывая неприязнь к Орде, а не из-за близости к ней. Но последующий вывод автора на с. 57 вполне ожидаем: