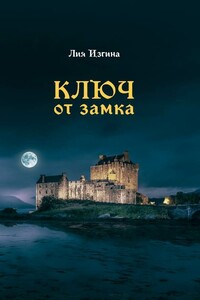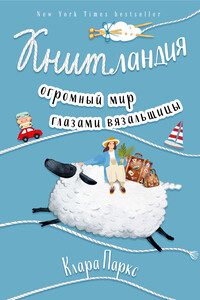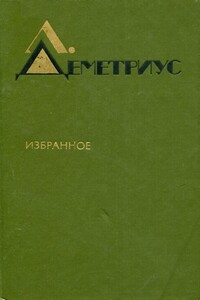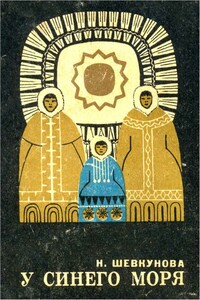Три персонажа в поисках любви и бессмертия | страница 128
Прежде чем пересказать здесь краткое содержание этой и без того сжатой статьи, выскажем, разумеется в качестве гипотезы, предположение о том, что болезнь Павла, предшествовавшая этой публикации, оказала на ее содержание самое непосредственное влияние. Точнее не сама болезнь, а то видение хаоса, которое ею было вызвано, и о котором мы уже писали. Странным образом Павел запомнил это видение и спровоцированное им чувство теряющей форму, стекающей и сползающей в хтонический хаос материи. Постепенно стал он различать за этим ощущением некий смысл. Он догадался, что это было чувство смерти. Именно смерти, а не страха ее. Не ожидания, а самой непосредственно смерти как утраты формы и слияния с бесформенностью. Он понял, что жизнь была формой. Смерть – ее исчезновением. Что следовало за этим, он не знал. Ибо тогда до конца не умер, выздоровел, вернулся обратно, в оформленность и очерченность. Однако в акте смерти, как исчезновения индивидуальной формы, как ее растворения в безбрежности, в вязкой, тягучей безграничности, он прозрел причину страха, нет, не смерти, а жизни. Этот страх, именно жизни – как существования пусть временной, но уникальной формы, ни на кого и ни на что не похожей, – был связан и со страхом одиночества, и с тягой ко всему массовому, к слиянию с целым, единым и бесформенным в пляске, хороводе, пении, хождении строем, беге по протоптанным другими дорожкам. Именно в страхе, нет, не смерти, а жизни угадал Павел это желание стереть свои черты и скрыться за маской коллективного небытия. Результатом этого открытия стала спокойная радость жизни, которая словно проклюнулась в его мозгу. Ровное и веселое счастье быть вот этим, каким ни на есть Павлом Некревским, носителем фрагмента хаоса, ожившего в это мгновенье, обретшего его, Павла, форму и ставшего ненадолго тем самым им – живым. Акт жизни вдруг отчетливо представился ему как сознательно принятое решение невозмутимо быть тем, что вызвало его к жизни, воплотиться, стать, не походя при этом ни на кого и ни на что иное, ни своим видом, ни лицом, ни телом, ни мыслями. Однако в результате этого переворота в сознании наш Павел не стал ни святым отшельником, ни черным развратником, не пошел жить в бочке или под мостом и вообще ничего решительно ужасного, как, впрочем, и прекрасного, не совершил. А вместо этого опубликовал, как мы уже сказали, четырехстраничную статью. И на том свою научную деятельность завершил. Заметим еще, прежде чем перейти к содержанию этой статьи, что жизнь в Риме, то есть в месте бесконечно странном, да еще в этом его наистраннейшем, ни на что разумополагаемое не похожем Десятом района Кампителли, с видом на имбирный пряник театра Марчелло, несомненно, наравне с болезнью и выздоровлением, оказала влияние на Павла и спровоцировала как написание упомянутой статьи – ее почти математический характер тому доказательство, – так и решение отказаться от публикации и перевода рукописи № 233. Ибо сквозь провалы, дыры, ухабы, колодцы, углы и изгибы этого города постоянно проникали обломки форм, прекрасных даже в своей фрагментарности, а может быть именно благодаря ей. Всюду, где бы Павел ни бродил – особенно после того как на вилле Франк с ним распростились, – в какую бы церковь, в какой бы двор или музей ни заходил, везде на него смотрели некогда жившие люди. Везде угадывал он лица и шеи, плечи, руки, животы, колени и голени, которые даже в самом что ни на есть разбитом, разобранном или потрепанном виде свидетельствовали все о том же – о жизни, о ее хрупкости, о ее силе. Ступая по носам и улыбкам, по сложенным рукам людей, лежавших здесь повсюду под его ногами, столь навсегда похожих на себя и непохожих на соседа, равных единственно себе, совпадающих лишь с собой по росту, контуру, пышности волос и складке между бровями, он размышлял о способности жизни угнездиться в любом, самом посредственном, очертании и о ее неспособности длиться в бесформенном.