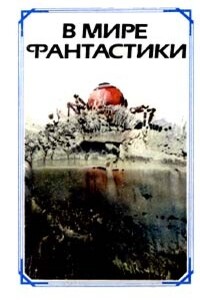Русский реализм XIX века. Общество, знание, повествование | страница 42
Прежде чем Белинский открыл для себя Гегеля, его мысль опиралась на непосредственного предшественника Гегеля в родословной немецкого идеализма – Фр. Шеллинга, утверждавшего в «Системе трансцедентального идеализма», что «искусство есть единственно истинный и вечный органон, а также документ философии, который беспрестанно все вновь подтверждает то, чего философия не может дать во внешнем выражении»[152]. В статье «О русской повести и повестях г. Гоголя» (1835), где Белинский впервые взялся определить «поэзию действительности», он еще оставался верен идеям Шеллинга о высшей ценности бессознательного художественного творчества: «Акт творчества, в душе творящей, есть великое таинство; минута творчества есть минута великого священнодействия»[153]. Однако с погружением в гегельянство Белинский отказался от представлений такого рода.
Повторяя тезис Гегеля о «конце искусства» – «искусство ‹…› перестало уже быть высшею всеобщею формою всеобщей истины» – Белинский не испытывал особенного беспокойства[154]. Можно думать, что понятая в гегельянских категориях русская ситуация все еще оставляла только развивавшейся литературе большое поприще. Однако и эта литература не могла не чувствовать весомости гегелевских вердиктов.
Обращение к «Эстетике» Гегеля и ее отзвукам у Белинского позволяет существенно скорректировать устоявшиеся представления о печально знаменитом «примирении с действительностью». Обычно оно представляется едва ли не трагическим недоразумением: якобы Белинский воспринял от Бакунина неверное прочтение фразы из предисловия к «Философии права» – «что действительно, то разумно, и что разумно, то действительно» – и впал в своего рода умопомрачение, заставившее его проповедовать покорность властям и безмолвное принятие существующего