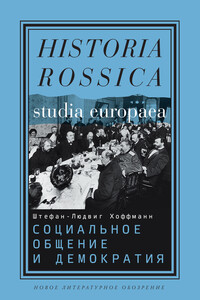Иррациональное в русской культуре. Сборник статей | страница 76
Идея несправедливо понесенного наказания, усугубившаяся неопределенностью с квалификацией его то ли как душевнобольного, то ли как здорового, укрепила Квашнина-Самарина в мысли, что III Отделение несет полную ответственность за все беды и мучения, которые ему довелось пережить, и уже в 1853 году он начинает настоятельно требовать денежной компенсации за перенесенные страдания (1, Л. 130–131).
В 1860-е годы III Отделение приняло эту аргументацию, положив начало более чем двадцатилетней «социальной помощи» своему подопечному.
Один из самых интересных аспектов дела Квашнина-Самарина – его литературное и переводческое ремесло. Хотя этот человек является автором более чем десятка опубликованных брошюрок с разного рода стихотворными сочинениями, он не удостоился отдельной статьи в соответствующем томе словаря «Русские писатели 1800–1917» – очевидно, в силу низкого художественного уровня этих текстов. Однако если сфокусироваться не на роли «беглого стихотворца» в литературном процессе 1830–1870-х годов, а на том, как он систематически пытался эксплуатировать и обратить себе на пользу социальные и политические функции литературы, историко-литературный анализ его сочинений (включая и его письма в III Отделение) может оказаться вовсе даже небесполезным.
Начать следует с самого первого известного нам текста – того самого стихотворения, которое послужило «спусковым крючком» всей этой длинной истории. Несмотря на многочисленные заверения автора в том, что он написал «глупость», «пародию», которой не следует предавать большого значения, острый политический месседж этого текста останавливает на себе внимание любого читателя. Квашнин-Самарин фактически утверждает, что российская армия 1830-х годов слаба и деморализована, не может выдержать не только сравнения, но и малейшего столкновения с армиями европейских стран и одерживает победы только над малопрофессиональными азиатскими армиями. Причиной этого состояния он полагает оскуднение патриотических чувств и «продажу» народа на рынке: слова о немецкой аптеке должны навести читателя на мысль, что инициаторами этой продажи стали инородные силы.
Чиновник III Отделения не случайно сразу же включил в дело выписку из веденного Квашниным-Самариным в его парижском путешествии дневника – он увидел в нем явные параллели с идеями «предосудительного» стихотворения:
Пришед в Канцелярию думал найти там Русских и поговорить по Русски; но увы! все чиновники Канцелярии Иностранцы; кажется, французы, и Секретарь Шпис тоже; – Срам! – Горе! да и только. – Ах Русаки, Русаки, что с Вами делают? Боже мой Боже. Русской пришел в свое посольство предъявить Русскому Посланнику свой паспорт; его принимают французы; печать с орлом Российским в руках какого-нибудь Mr Spies, или Mr Firmiu, срам, поношение Русскому имени (