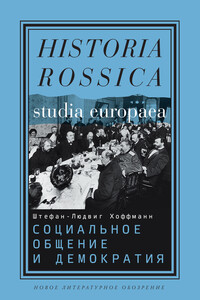Иррациональное в русской культуре. Сборник статей | страница 16
Интересно, что антиинтеллектуалистский пафос рассуждений апостола Павла, уже подкрепленный нарративными аргументами из агиографии «святых похабов», станет вновь актуален в Новое время, когда блаженные последних двух веков (вернее, их апологеты – агиологи и агиографы) будут бросать вызов мудрости мира сего, опять меняющего свои морфологические и дискурсивные характеристики. Этот мир до определенного момента становится все более секулярным, и юродство вновь становится сущностной характеристикой чуть ли не всех истинных христиан. Совершенно в другом контексте и на других основаниях оно, как и в построениях апостола, оказывается противопоставленным тем самодовольным интеллектуальным элитам, которые мнят себя монополистами в области производства истины (см., например, многословные и пронизанные горечью рассуждения о безбожном материализме из введения к книге иеромонаха Алексия Кузнецова[43] или довольно типическое сравнение юродства повседневной жизни рядового христианина с повседневной аксиологией общества потребления[44]). При этом экстраполяция опыта критики повседневной рациональности, характеризующей область здравого смысла, на сферу новоевропейского позитивистского знания тоже, как можно заметить, является довольно смелым ходом, так как юроды классической эпохи, да и блаженные Нового времени, с этой сферой не соприкасались, продолжая тревожить религиозное воображение своих единоверцев и провоцируя их рефлексию о формах и локусах существования сакрального в дольнем мире.
Из вышесказанного не следует, что в Новом Завете нет идеи конфликтных отношений, которые существуют между высшей мудростью и повседневным здравым смыслом (и близкими ему представлениями о поведенческой норме). Очевидно, что многие притчи имеют основанием своего парадоксального пуанта именно сопоставление разных типов рациональности. Для нашего рассуждения наиболее показательной является притча о работниках одиннадцатого часа (Мф. 20:1–16). Напомню, что в этой истории хозяин виноградников нанимает в разное время дня на работу людей, которые вечером получают равное вознаграждение. Это вызывает ропот тех, кто проработал больше остальных; на что наниматель утверждает, что те получили за свой труд оговоренную плату и определение вознаграждения другим остается на его усмотрение. Очевидно, что здесь сталкиваются два типа рациональности. Рациональность работников строится на принципе справедливого – в их случае пропорционального затраченному времени – вознаграждения за труд. Ей противопоставляется логика хозяина, который сообразует свои поступки с потребностями производства, ограничивая себя соблюдением имеющихся трудовых контрактов. Очевидная идея этого нарратива – независимость спасения от труда, на него потраченного (замечу, впрочем, что конкретные толкования могут по-разному акцентировать эту мысль), – несомненно, не совсем обычна и провокационна для устоявшихся сотериологических ментальных привычек, основывающихся на «трудовой теории стоимости» Царствия Небесного. Но она известна и по другому – возможно, еще более знаменитому – евангельскому сюжету, а именно по истории о «благоразумном разбойнике» (Лк. 23:39–43), которому достаточно было перед смертью обратиться к Иисусу как к Господу, чтобы попасть в рай.