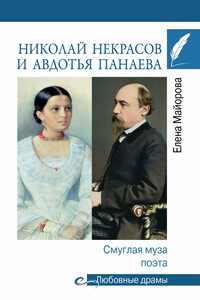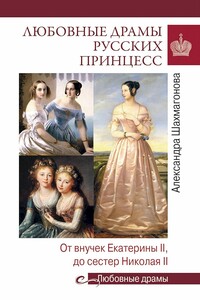Актрисы старой России. От Асенковой до Комиссаржевской | страница 41
«Возвращаясь домой, мы должны были зайти в Гостиный двор, и здесь, проходя Пассаж, встречаем секретаря театральной школы. Он необыкновенно радушно поздоровался со мной и спросил меня, почему я вдруг оставила занятия в школе. Я объяснила ему это домашними обстоятельствами, прибавив, что теперь я могла бы заниматься опять и очень желала бы этого, но что не знаю, как это сделать, как снова поступить в класс. Какова же была моя радость, когда он объяснил мне, что делать для этого нечего, что я до сих пор числюсь в театре, что мне стоит только явиться и начать заниматься. На другой же день я пошла в школу и с жаром, всей душой предалась искусству. Насколько влечение мое к нему было сильно, видно из того, что когда, несколько времени спустя, приехал жених мой, я без малейшего колебания отказалась от его вторичного предложения, потому что, в случае согласия, мне пришлось бы опять оставить театр и бороться с его родителями, которые так и не согласились на наш брак.
Бывший жених мой был совершенно убит этим отказом и, как я узнала впоследствии, начал страшно кутить. Наконец, с досады на родителей, женился на женщине, находившейся на последней ступени падения, и привез ее к своим родителям».
Вот такие случаются жизненные повороты. И если немного поверить в мистику, то можно твёрдо сказать, что встреча с молодым человеком явилась серьёзным испытанием истинности стремления к театральному искусству, к приобретению профессии всей жизни.
И снова продолжилась учёба, сначала у прежнего педагога Быстрова, затем у Николая Францевича Вителяро (1821–1887), певца, дирижёра, репетитора хоров русской оперы, композитора, любимым жанром которого был замечательный и неповторимый русский романс. Вителяро написал учебное пособие «Метода пения, или Подробные объяснения всех правил, необходимых для развития голоса».
Вскоре начались первые выступления, и наконец, как награда за упорство и труд выход на сцену Александринского театра с песней «Ах, не мне бедному!» в опере «Жизнь за царя».
Этот выход сыграл в её жизни решающую роль.
В феврале 1837 года появилась критическая статья по поводу совершенно другой оперы (Беллини, «Капулетти и Монтекки»), но в ней неожиданно автор коснулся оперы Глинки, отметив:
«С оперою Глинки „Жизнь за царя“, начавшей новую эпоху в нашей сценической музыке, началась и новая эпоха самого пения. Люди, не бывшие несколько месяцев в Петербурге, не узнают наших артистов: те же люди, те же голоса — и не то! Точность интонаций, верность выражения совершенствуются с каждым днём более и более; иногда ещё промелькнет наклонность к завыванию, из которого некогда состояло все пение — но этот недостаток с часу на час исчезает. Труды Глинки не пропали. Честь и слава нашим артистам!»