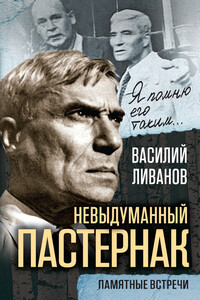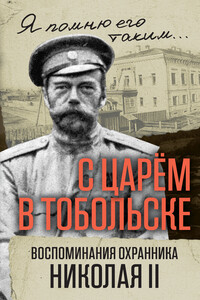Андрей Тарковский. Сталкер мирового кино | страница 54
Подмастерье Сергей бубнит из Священного Писания о греховности женщин, снявших платок. Андрей слушает, смотрит на плачущую простоволосую Дурочку, и вдруг, в безмерном отчаянии, прорывается счастливый смех: «Данила, слышь, Данила! Праздник! Праздник, Данила! А вы говорите! Да какие же они грешники? Да какая же она грешница? Даже если платка не носит!..»
Слово «праздник» в устах Андрея устанавливает связь его нынешнего озарения с эпизодом языческого праздника.
Иконописец не тяготится своим грехом. И Марфа для него – не грешница. Человеческое в человеке, любовь, исповедуемую Марфой, он принимает как истину.
Страха Господней кары в написанном Рублевым «Страшном суде» не будет. Страх – побежден.
Феофан Грек (Николай Сергеев)
Перед нами – единственный случай в картине, где показано, как творил Рублев. И это в фильме о художнике! Но даже тут изображена не история создания фресок, а предыстория. Рублев решил, каким он будет писать «Страшный суд», но ни того, как он работает над ним, ни самих росписей мы не видим. Зритель должен довольствоваться тем, что Андрей крикнул: «Праздник!»
В сценарии герой тоже ни разу не представал с кистью в руке. Но была сцена, в которой Андрей разглядывал свой «радостный» «Страшный суд» и шло поэтическое описание фресок. В фильме такой сцены нет. Но дело даже не в этом. Тарковский меняет сам принцип соотнесения рублевского искусства с действительностью.
В сценарном эпизоде «Тоска» Андрей наблюдал за тремя мужиками за столом, вспоминал о плавных движениях матери и отца за молотьбой, замечал, как рубаха старика застыла ломаными линиями, «похожими на смятую жесть», а «яркое солнце запуталось в растрепанных вихрах мальчишки золотым нимбом», и вот уже, потрясенный «неожиданно обрушившимся на него замыслом», Рублев подбирал с земли уголек и готов был рисовать на стене эскиз «Троицы». И в образах праведных жен из «Страшного суда» он впрямую воплощал воспоминание о Марфе и рассказ о русских женщинах с косами, отрубаемыми татарской саблей.
В фильме творчество Рублева не связано непосредственно с наблюдаемой им жизнью. Оно – следствие его тайной, не воссоздающей, а создающей работы, сложных, порой очень противоречивых борений мыслей и чувств, разумных решений и страстей. По Тарковскому, великое свершение человека – это чудо, оно не имеет видимых причин во внешних обстоятельствах.
Чудо, что темный мужик в прологе взлетает.
Чудо, что после жестокого ослепления мастеров Рублев вдохновляется на создание светлого, как праздник, «Страшного суда».