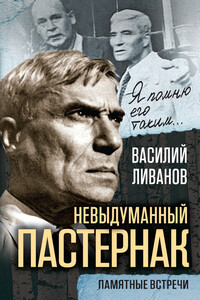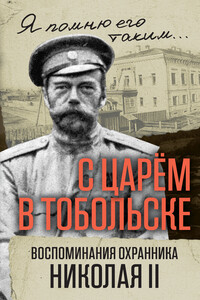Андрей Тарковский. Сталкер мирового кино | страница 47
Русские люди из языческой деревни в «Празднике» не только вольны в проявлении своих естественных человеческих чувств, но и понимают их несовместимость с общепринятыми, навязанными им сверху религиозными установлениями. Еретики – они осознают свое еретичество и не боятся его.
…Три мужика хватают у сарая Андрея, подглядывающего за колдовством Марфы, и прикручивают его к крестовине столба. Снова распятие! Только что мы видели русского мужика распятым, теперь мужик распинает Рублева и тоже, по его словам, «навроде Иисуса Христа».
Распятие народа властью и распятие народом заступника чуждого ему – сопоставление огромной обобщающей силы, без него смысл сцены «Голгофа» не был бы воспринят полно.
Самое поразительное, что полуголый крестьянин-язычник, прикрутив Рублева к столбу, умело крестится. Еретик, инакомыслящий – не человек другой веры. Это единоверец, отвергнувший духовное насилие над собой.
Тарковский неизменно последователен. Он и бунтарские мотивы переносит из области социально-экономической в религиозно-нравственную. Федора и Марфу теперь вяжут на берегу реки дружинники не за то (как в сценарии), что ограбленный властью мужик спалил княжеские хоромы. Там он грозил: «Не будет жисти князю вашему, не бойсь! Не я, так другие» – мол, вся борьба еще впереди; здесь он кричит: «Не будет жизни князю вашему, а мы как жили, так и будем жить!» – то есть никакими карами не заставить их отказаться от язычества.
Народ терпеливо несет свой крест, но он способен над крестом и надругаться, ибо ничто не убило в нем душу живу, а крест нестерпимо давит. Правда, так ли уж хорошо это – надругаться? Итог неоднозначен. Утром, когда все молодые спят после сладострастных утех, помните темную фигуру старухи, застывшую в скорбной позе под равномерный скрип бревна? Она знает, чем кончаются эти праздники воли…
Далее образ народа развивается в фильме столь же сложно. Вновь страдание и беспомощность перед сильными мира сего: ослепленные люди ползают по земле, как черви, и жалобно перекликаются. Но без страдания не бывает взлета духа, без мук – героического подвига. При смеховом начале, заложенном в характере Патрикея (недаром на роль был взят клоун Юрий Никулин), он поднимается до образа великомученика. Сочетание высокого и низкого, присущее всей картине, здесь особенно разительно. Ключарь был смешон и нелеп в эпизоде «Страшный суд», когда, перебивая самого себя, многословно тревожился по поводу задержки с росписью собора. Но даже тут, в «Набеге», во время пыток огнем Никулин кричит как бы не всерьез. Его причитания: «А-а-а, больно! Ой, мама! Ой, мамочка, больно!» – поначалу даже вызывают смех зрителей, пока им не становится страшно.