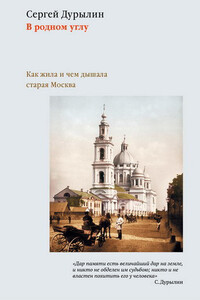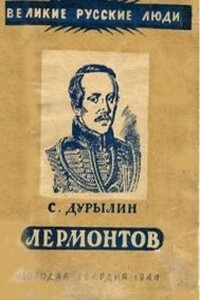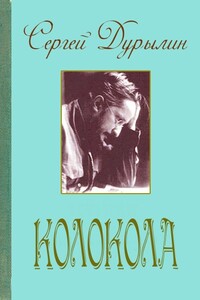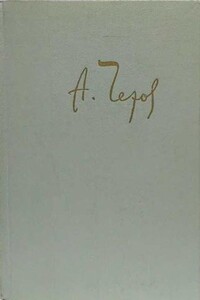Тихие яблони. Вновь обретенная русская проза | страница 18
– Приехали поздравить бабушку с праздником? – осведомилась у меня старшая монахиня, с тремя длинными волосками на подбородке, росшими из родимого пятна.
Я потупился.
– Отвечай же матушке, – шепнула мне няня.
– Да, – сказал я. – Мы бабушку любим.
– И подобает, – отозвался седой монах, – и подобает не только любить, но и почитать… И почитать, и почитать! – повторял он, точно обрадовавшись, что напал на это слово. – И почитать! Мед у вас, мать Параскева, – прервал он сам себя, – дивный: благоухает.
– Кушайте на здоровье!
– В этом году меду благоухание, – ответила монахиня с волосиками. – Травы цвели превосходно. Мать игумения посылала меня на хутор, на покос. Открою я, бывало, окно, как к утрене вставать, а из окна, от трав, благоухание, будто ладаном росным окажено.
– А я возвращаюсь к слову своему: и почитать! Мать Иринея – дивная старица.
– Мало ныне уж таких, мало, – откликнулась вторая монахиня, худая, серая старушка, в медных очках.
– Воистину – молитвеница! – сказала няня. – Васенька наш, – она погладила брата по спине, – родился болезненный. Почти ничего не ел. Плачет, бывало, плачет, а доктор рукой машет: ничего, мол, не могу, и, наконец, сказал: вы, дескать, денег мне не давайте: я ездить езжу, но в пользу не верую, а для своего, докторского, любопытства: как конец обернется. И порешили мы с барыней под образа Васеньку положить: не мучить боле, а на волю Божию. Доктор это увидел, махнул рукой и больше не приезжал. Только мы его проводили, а матушка Иринея к нам.
– Никуда не ездит, а тут приехала, – отрезала значительно Параскевушка.
– Приехала – и прямо к Васеньке идет. Мы за нею. «Нет, – говорит, – я одна побуду. Вы устали небось».
– Ну, это неспроста. Не «устали», а неспроста, – сказала монахиня в очках.
– Простое ли дело? – сказала няня. – Мы за дверь отошли. А она подле него на колени стала и так-то молилась, так молилась. Мы видим, а она нас нет…
– Ну, это кто знает? – сказала Параскева. – Видит, нет ли.
– А потом встала, нас позвала, кажет нам личико Васинькино. «Видите, – говорит, – к здоровью этот сон у него». А у него носик худой, будто у птенчика. «Боюсь, матушка, умрет», – барыня это говорит. «Ах, мать, мать, – отвечает, – плохо ты смотришь, говорю тебе: видишь, улыбка у него во сне, к здоровью это. Жестко ему здесь лежать, перенесите-ка в детскую, в кроватку. Ишь, он ручку откинул». – «А мы было, тетушка, нарочно его под Богом положили здесь…» – «А я что же говорю: мать, мать, плохо слушаешь, и я говорю: отнеси в кроватку, под Богом – Бог несть Бог мертвых, но Бог живых…» И будто все по-нашему она говорит, а все не наше выходит, не как у нас… Собралась тетушка уезжать и говорит: «Привозите, – говорит, – его через неделю в монастырь причащать, к Ивану Предтече». Хорошо. А мы думаем: как повезем? Не пришлось бы в монастырь на кладбище нести…