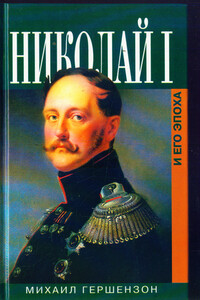Избранное. Исторические записки | страница 24
Самарин сразу перенес все дело из области умозрения на реальную почву. Для Киреевского непосредственно данным был только факт органической цельности человека, духовность же знания являлась постулатом, теоретическим выводом из этого факта. Самарин сделал шаг вперед: он не доказывает, что знание может быть добываемо только целостным духом, – он показывает, что оно в действительности никогда иначе и не добывается. Как человек, – говорит он, – не есть равнодушное вместилище, в котором механически соединены различные способности и силы, действующие каждая по своим особенным законам и независимо от других, так нет в человеке и отдельной познавательной способности, которая действовала бы в полном разобщении с прочими. Человек представляет собою целостное единство; сообразно с этим единством познающего субъекта вся область познания необходимо представляет одно соподчиненное в своих частях целое. Истина едина по своему существу и все частные истины сводятся к одному явлению истины; все науки – ветви одной науки, существует только одна наука, коренные вопросы которой решаются не одним умом, но всем сознанием в его жизненной цельности, то есть при непосредственном участии совести и воли, и эти решения, каковы бы они ни были, ложатся в основание отдельных наук. Заблуждение думать, что знание тем совершеннее, то есть тем ближе к истине, чем пассивнее воля относится к процессу познавания: объективность науки – миф, объективною может быть только формальная сторона науки, например математические выводы; полное же знание не приобретается извне, как вещь, а вырабатывается всей личностью из материала действительности в живом творческом процессе. Как только ребенок начинает сознавать окружающее, его внимание прежде всего сосредоточивается на самых общих вопросах бытия: он прислушивается к первым внушениям своей совести, усваивает основные понятия добра и зла и жадно расспрашивает об отношении мира видимого к миру невидимому, который он живо ощущает в особенном чувстве ужаса. Так образуется в нем первый состав нравственных чувств и понятий, наиболее отвлеченных и вместе наиболее индивидуальных. Потом, по мере того, как расширяется круг его ощущений и накопляются новые представления, он прежде всего старается приладить их к основному запасу уже ранее приобретенных общих идей, и в этой непрекращающейся работе души весь материал, получаемый извне, растопляется и ассимилируется сознанию. Точно так же целый народ раньше всего определяется религиозно; в основе всякой сложившейся образованности лежит система религиозных верований, – ею определяются нравственные понятия, под влиянием которых складываются семейный и общественный быт, юридические формы и пр. Таким образом, ни отдельный человек, ни народ никогда не бывают пустым сосудом, который можно наполнять знанием, и знание не есть нейтральное вещество, добываемое без участия нравственной личности.