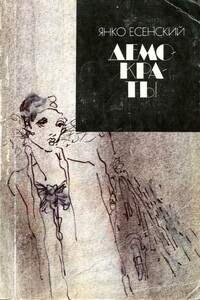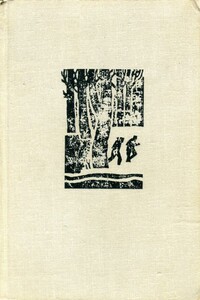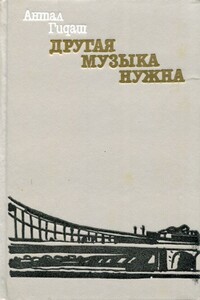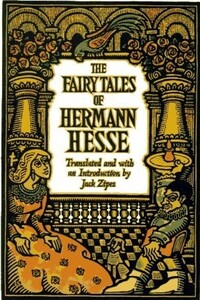Господин Фицек | страница 12
Почти на глазах у меня родились последние, быть может, прекраснейшие тарусские стихи Заболоцкого. И он читал их, как всегда, решительно, отчетливо, непререкаемо.
Или рассказать о Луговском, который, выложив на стол дюжину грозно отточенных карандашей, торопливо, словно чувствуя, что времени уже мало, писал в Переделкине «Синюю весну», стихи о нашей романтической революционной юности и любви? Взволнованный, приходил он вечерами к нам на дачу и читал тихим, но все-таки громовым голосом эти стихи, подмигивая нам, словно сообщникам: «Вы-то понимаете!»
Или вспомнить то, о чем и не забыть никогда, — те пять слов Суркова: «Ручаюсь головой и партийным билетом!» — которые он написал обо мне в ту пору, когда за эти пять слов с легкостью мог бы расстаться и с головой, и с партийным билетом?
Рассказать ли об Асееве, о том, как он приглашал к себе на дачу, на Николину Гору, приглашал на «Маяковского»? Как тогда, в напряженное лето 1955 года, каждый вечер по веранде асеевской дачи будто и вправду ходил Маяковский, «двухметроворостый», «горлан и главарь», величайший поэт современности, ребенок, юноша и вечно взрывающийся добряк, страстный ненавистник мещанства и буржуазности, родной трагический оптимист, одним словом — Маяковский. Или вспомнить 1928 год, Крым и маленького, восьмилетнего Сережку, который удивленно смотрел во все глаза на меня, «венгерского поэта», и решил, что тоже станет поэтом, и стал поэтом — Сергеем Наровчатовым?
Могу ли я забыть Полевого, Полевых? Сколько раз сиживал я у них, когда бывало тяжело в жизни! Сколько раз слышал его ободряющее: «Ну-ну, старик… Ничего, все образуется!..»
А очень милого Самойлова, Слуцкого… И приходили еще более молодые, которых и сейчас вспоминаю очень часто, читая их стихи. И в воображении хожу по московским бульварам, в сиянии электрических лун, просвечивающих сквозь июньскую листву…
Вспомнить ли Дальний Восток, дом отдыха на 19-м километре, где как-то однажды после обеда, крикнув: «Скоро вернемся!» — Фадеев повел меня гулять? И мы шли, шли по тайге. Он рассказывал о волочаевских днях, о Спасске, о своей юности, и так за разговорами мы через четыре часа оказались вдруг во Владивостоке. Вошли в город, как и те партизаны, о которых рассказывал он.
А в доме отдыха поднялась паника: «Заблудились в тайге». Павленко поднял всех на ноги. И только поздно ночью, когда, побывав уже в ресторане и в театре, явились мы к знакомым, только тогда узнали, сколько волнений доставил наш поход, закончившийся тоже на Тихом океане.