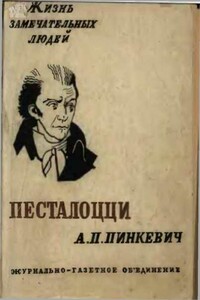Прибалтийский излом (1918–1919). Август Винниг у колыбели эстонской и латышской государственности | страница 82
Латышское правительство все же чувствовало, что почва под ним зашаталась, и явилось ко мне, чтобы посоветоваться о том, что можно было бы сделать для успокоения общего настроения. Но сделать было ничего нельзя. Падение еще можно было отложить на несколько дней, однако более продержаться было невозможно. Штаб армии приказал еще раз прозондировать у англичан, намерены ли они сделать что-нибудь для облегчения положения наших отчаянно сражавшихся небольших отрядов. Они заявили, что смогут вмешаться в бои своими корабельными орудиями. Штаб армии предложил им принять участие и в поддержании порядка в городе. После этого они высадили около 70 человек с несколькими пулеметами, прошедших маршем по городу, а затем вернувшихся на корабли.
Рига будет потеряна, сомневаться в этом уже не приходилось. По всем расчетам теперь уже речь могла идти только о том, чтобы выиграть немного времени, нужного для проведения эвакуации германского и находящегося в опасности немецкого населения. И уж совсем на заднем плане оставалась слабая надежда на прибытие из Германии первых завербованных там добровольцев. Охваченные тяжкими заботами, зажигали мы первые рождественские свечи.
А утром второго дня Рождества пришло сообщение, что одна из двух латышских рот подняла мятеж и объявила себя большевиками. Собственно, это не стало для нас неожиданностью. Офицеры штаба армии, которые куда лучше знали этих людей, чем я, всегда опасались именно этого и поэтому противились раздаче им оружия.
Вот теперь Уллманн, охваченный ужасом, явился ко мне и потребовал вмешательства германских войск, которые должны были разоружить мятежников и арестовать. Я отказал ему и отправил к англичанам. Германские солдаты и без того достаточно вынуждены были применять по отношению к местному населению силу, но более делать это они не обязаны. Да было уже и маловероятно, что они это сделают. А Уллманн, оказывается, еще до этого побывал у англичан и там также получил отказ. И вот он долго крутился вокруг меня, однако я оставался при мнении, что это – внутреннее дело латвийского государства, куда мы вмешиваться не можем. Военные инстанции разделяли мою точку зрения. Вечером второго дня праздников у меня было еще одно совещание. Уллманн сидел на нем с крупными каплями пота на лбу, он был совершенно сломлен. Он сделал предложение, чтобы мы обратились к англичанам с просьбой провести разоружение, и полагал, что в этом случае англичане и вправду сделают это. Но и теперь было немало сомнений. Оккупационная власть – это мы, а не англичане, и если бы я просил их о вмешательстве, это могло вызвать негативные последствия. Но я подумал, что могло бы быть полезным, если бы англичане, а не мы взяли на себя эту тяжелую миссию жандармов и палачей, так что отправил своих чиновников в порт. Англичане заявили, что им на суше делать нечего, они и так уже получили из Лондона нарекания из-за своего патруля в городе. Что они могут сделать с борта кораблей, они сделают, но на суше ничего предпринимать они не могут. После долгого совещания появился наконец план, который предусматривал взаимодействие немецких рот балтийского ландесвера и англичан. Мне не понравилось, что балтийские немцы намерены были принять эту роль, ведь тем самым они сослужили бы службу латышскому правительству и спасли бы его из этого тяжелого положения, но их за это вряд ли поблагодарили бы, ведь их навсегда стали бы считать палачами латышей. Однако не оставалось ничего другого, кроме как подавить мятеж. И это было сделано. Согласно плану, около семи утра 27 декабря над городом загремели выстрелы английских корабельных орудий, а спустя час взбунтовавшиеся латыши уже были разоружены и интернированы, а до серьезных боев дело так и не дошло. Командир ландесвера счел, что правильно будет приказать расстрелять по приговору трибунала 10 мятежников, что впоследствии дало повод латышскому правительству распространяться о «бесчеловечной жестокости немцев», хотя тогда никаких возражений против экзекуции оно не высказало.