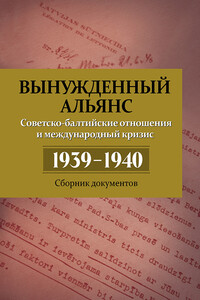Прибалтийский излом (1918–1919). Август Винниг у колыбели эстонской и латышской государственности | страница 53
Отношение к офицерам было преимущественно критическим. Нашлись специалисты по злобным наветам, рассказывавшие истории, от которых волосы становились дыбом, – о растрате казенного имущества, о злоупотреблении командными полномочиями для обогащения за счет местного населения и о прочих недостойных явлениях. Тем самым нападки на офицеров только усилились. В противоположность этому упоминавшиеся выше солдатские лидеры стремились положить предел этой травле. Но и среди них нашлись такие, что обвиняли тех или иных офицеров в тяжких проступках, однако же они протестовали против обобщения этих инцидентов и обвинений в них всего офицерства. Здесь многое зависело от того, какой личный опыт имелся в этом отношении. Некоторые весьма разумные деятели, в целом способствовавшие благоприятному развитию событий, приходили в ярость, когда речь заходила об офицерах, именно им приписывая основную вину за общее несчастье, но порой бывало и так, что отъявленные грубияны удостаивали своих ротных высоких похвал. Однако вне зависимости от этих настроений почти всегда в солдатских советах выражали готовность конструктивно взаимодействовать с командными инстанциями.
Сами же офицеры в целом вели себя сдержанно. Они переносили перемены с достоинством и довольствовались скромной ролью, которая им теперь была уготована в составе воинских частей. Случаи утраты собственного достоинства и пресмыкания перед подчиненными были крайне редки. В Двинске был один командир батальона, который сам срезал у себя погоны и кокарду[102], а потом самым отвратительным способом братался с солдатами, когда они обжирались и пьянствовали. Был и обратный случай в лице нескольких других офицеров аэродрома в Альт-Ауце, которые бежали сломя голову, бросив все на произвол судьбы. Однако оба этих случая являются исключениями.
Организацию съезда солдатских советов принял на себя солдатский совет гарнизона Риги, у которого было в целом умеренное руководство. Оно и обратилось к советам во всей зоне ответственности армии и намеревалось также наметить и контуры дальнейшей деятельности советов, однако этого не произошло. Я как официальное лицо лишь поприветствовал съезд, который собрался 17 ноября в одном из солдатских собраний внутри города, поговорил о положении рейха. Для меня важно было тут же перенаправить этот съезд в русло, которое, по моему убеждению, было необходимо в тот момент. То, что я имел заявить относительно «старого режима», я выразил с той свободной от всяких резкостей деловитостью, которая только и могла все преодолеть. Задача советов состояла не в создании новой организации вооруженных сил, а в помощи по сбору и отправке войск на родину. А потому требованием текущего момента были не политические дебаты, а усердная работа по решению этой задачи. И я, в частности, вновь обратился к моим товарищам по партии: мы всегда упрекали старый режим и заверяли, что, окажись власть в наших руках, мы работали бы на благо общества куда лучше, нежели он. Теперь же мы получили ее, а потому обязаны думать над тем, как выполнить наши обещания. Если же мы теперь не сможем обеспечить порядок, для дела партии это будет ужасно – однако от этого пострадает и армия в целом, да и рейху будет нанесен огромный урон. Многочисленным офицерам я заявил, что и рейх, и войска не могут отказаться от их руководящей миссии. И даже если крушение армии привело к тому, что они очень многого лишились по сравнению с их прежним положением, это не должно отвращать их от желания служить. Им следует продолжать выполнять свой долг – а Германия, которую мы любили, когда она была на высоте своего могущества и процветания, теперь, в ее нужде и страданиях, стала нам еще дороже. Эффект от моей речи был достаточно силен, чтобы сдержать тех, кто был иного мнения. Я был весьма доволен достигнутым результатом, ведь теперь я мог надеяться, что солдатское движение будет направлено в здоровое русло.