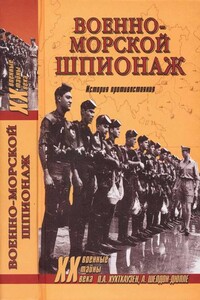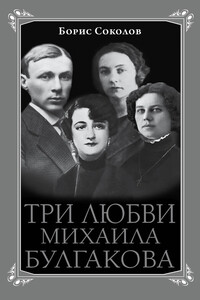Фронт за линией фронта. Партизанская война 1939–1945 гг. | страница 9
До войны на советской территории, занятой немцами и их союзниками, проживало более 70 миллионов человек. Но их население значительно уменьшилось как за счет эвакуации 15 миллионов жителей на Восток и мобилизации от 7 до 10 миллионов призывников в Красную армию, так и за счет голода, болезней, репрессий оккупационных властей и отправки местных жителей на принудительные работы в рейх. Кроме того, многие горожане перебрались в сельскую местность, где легче было прокормиться.
Среди тех, кто отказался от эвакуации или не смог эвакуироваться, в первый момент преобладали прогерманские настроения. Вот что утверждал, например, бывший руководитель подполья НКВД в Могилеве К.Ю. Мэттэ: «Количество населения в городе уменьшилось до 47 тысяч (до войны было более 100 тысяч). Значительная часть советски настроенного населения ушла с Красной Армией или же вынуждена была молчать и маскироваться. Основной тон в настроении населения давали контрреволюционные элементы (имеющие судимость, всякие «бывшие люди» и т. д.) и широкие обывательские слои, которые очень приветливо встретили немцев, спешили занять лучшие места по службе и оказать им всевозможную помощь. В этом числе оказалась и значительная часть интеллигенции, в частности, много учителей, врачей, бухгалтеров, инженеров и др.
Очень многие молодые женщины и девушки начали усиленно знакомиться с немецкими офицерами и солдатами, приглашать их на свои квартиры, гулять с ними и т. д. Казалось как-то странным и удивительным, почему немцы имеют так много своих сторонников среди нашего населения».
А вот мнение человека прямо противоположных взглядов, убежденного антикоммуниста, после войны оказавшегося на Западе. П. Ильинский следующим образом описывает настроение крестьян в окрестностях Полоцка: «Убеждение в том, что колхозы будут ликвидированы немедленно, а военнопленным дадут возможность принять участие в освобождении России, было в первое время всеобщим и абсолютно непоколебимым. Ближайшее будущее никто иначе просто не мог себе представить. Все ждали также с полной готовностью мобилизации мужского населения в армию (большевики не успели произвести мобилизацию полностью); сотни заявлений о приеме добровольцев посылались в ортскомендатуру, которая не успела даже хорошенько осмотреться на месте».
Однако эти надежды рассеялись как дым. Тот же Ильинский десятилетие спустя после окончания войны писал: «Только теперь, в ретроспективном плане, зная досконально чудовищные идеологические основы Третьего рейха, мы можем понять, в какое бешенство должна была приводить столпов национал-социализма наша претензия на участие в вооруженной борьбе против большевиков. Ни о русских формированиях, ни о мобилизации, ни о приеме добровольцев не могло быть тогда, конечно, и речи! Протянутая рука была отвергнута и осталась беспомощно висеть в воздухе».