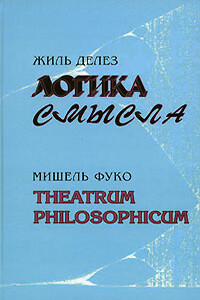Сенека. Избранные труды | страница 34
В первых стихах мы видим мудреца, которого не устрашает ни звон оружия, ни сражающиеся друг против друга густые ряды войск, ни треск рушащихся стен осажденного города. В последних – перед нами слабый ум, который боится за свое имущество и пугается малейшего шороха: малейший звук он принимает за стон и дрожит, и легчайшее движение вызывает в нем трепет. Он стал боязливым из-за своего бремени. И всякий из числа тех считаемых счастливыми людей, которые много несут с собою и много тащат за собою, как ты легко можешь в том убедиться, боится за того, с кем идет, и за то, что несет он.
Считай за признак полного развития, если тебя не будет смущать никакой шум, не будут волновать никакие голоса, слышатся ли в них льстивые слова или угрозы, или просто пустые звуки. Но, сознаюсь, из этого еще не следует, чтобы не было удобнее избегать шума. Потому и я уеду из этого места. Я хотел только испытать себя. Нет никакой необходимости дольше терзать свой слух, когда еще Одиссей, оберегая своих спутников, придумал прекрасное и простое средство – даже против сирен.
Письмо LXIII. Не следует слишком оплакивать утраты
Мне грустно, что умер твой друг Флакк, но я не хочу, чтобы ты слишком предавался горю. Я не смею требовать, чтобы ты совсем не горевал, хотя знаю, что последнее было бы всего лучше. В самом деле, такая твердость духа присуща человеку, возвысившемуся над самою судьбою. Утрата друга огорчила бы его, но и только. Нам же простительны слезы, если только они текут не слишком обильно и если мы сами стараемся их унять. Не следует встречать весть о смерти друга с сухими глазами, но не следует и разливаться в слезах. Можно поплакать, но не надо громко рыдать. Тебе кажется, что я требую от тебя чрезмерной суровости, а между тем величайший из греческих поэтов ограничил срок оплакивания всего одним днем, заставив Ниобею думать о еде в тот же день, в который она потеряла своих детей. Ты спросишь, зачем же тогда люди причитают и неуместно оплакивают покойников? В слезах мы ищем доказательства горя и не столько следуем влечению скорби, сколько показываем ее другим. Никто не плачет, оставшись один. Как это ни глупо, однако есть доля тщеславия в самой скорби. «Неужели же, – возражаешь ты, – я должен забыть своего друга?» Коротка же твоя память, если она не переживет скорби, ведь ты уже теперь способен смеяться сквозь слезы всякому пустяку. Не говорю уже о том, что будет позже, когда скорбь смягчится и тяжелые припадки тоски прекратятся. Едва ты перестаешь следить за собою, печальное выражение сходит с твоего лица. Ты сам стережешь свою печаль. Но, несмотря на твою бдительность, скорбь прекратится и притом тем скорее, чем была острее.