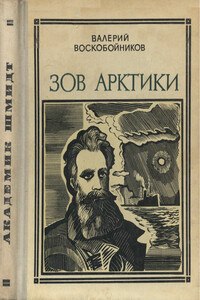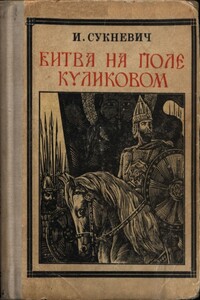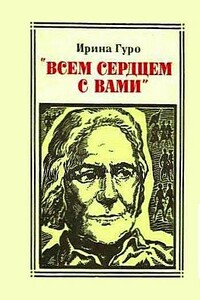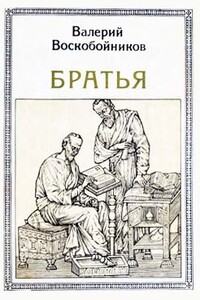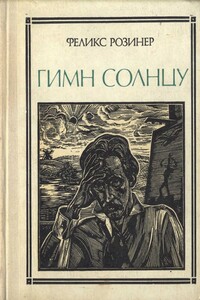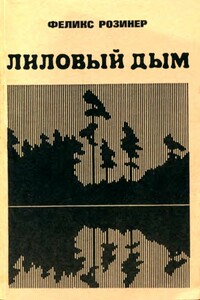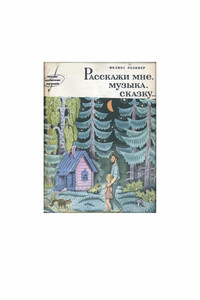Токката жизни | страница 24
Жюри разделилось. Директор, добродушный Глазунов, был непримирим и голосовал против. Но он оказался среди меньшинства и скрепя сердце должен был зачитать решение о победе Прокофьева.
Столичные газеты широко оповестили о результатах конкурса, напечатали фотографии победителя, в консерватории и музыкальных кругах его имя склоняли на все лады. Еще он успешно продирижировал на экзамене по классу Черепнина и как дирижер тоже кончил с отличием. В свои двадцать три года Прокофьев, уже вкусивший известности и успеха, без каких-либо потерь штурмовал хорошую высоту, чтобы с нее, словно с трамплина, совершить полет вперед и дальше.
Композитор предпринимает поездку в Лондон на деньги, которые тоже явились своеобразной премией: мать Прокофьева финансировала это путешествие в качестве подарка любимому сыну за его успехи. Вместе с матерью он уже побывал за границей прошлым летом, и там, среди прочего, важным для него оказалось знакомство со спектаклями «Русских сезонов» Дягилева. Прокофьев видел два из них, не самые лучшие, из них «Шехеразада» (на музыку Римского-Корсакова) ему понравилась, а постановка «Карнавала» (музыка Шумана) показалась «скучновата и неизобретательна». Между прочим, применяя к музыке свои излюбленные определения — изобретательная и неизобретательная, — Прокофьев нередко как бы характеризовал самого себя и свое отношение к композиторскому искусству: изобретать в его понимании значило творить новое, непохожее на известное, достигнутое ранее, а это было его всегдашним стремлением!
Вероятно, обратив внимание на «Русские сезоны», Прокофьев увидел в дягилевском балете подходящую арену для применения своих композиторских сил. Получилось так, что не только творческая, но и личная судьба Прокофьева оказалась связана с «Русскими сезонами» — связана нитями, далеко не всегда прочными, часто обрывавшимися, но, во всяком случае, протянувшимися на долгие пятнадцать лет…
Нити эти тянулись и назад, к «Вечерам современной музыки», к кругу людей, которые группировались около «мирискусников» и журнала «Аполлон». Сергей Дягилев был среди них фигурой важнейшей. Участник кружка А. Бенуа с первых дней его существования, Дягилев стал организатором многих интереснейших начинаний в культурной жизни столицы России конца XIX и первых лет XX столетия, а в 1906 году взялся за пропаганду русского искусства за границей. Европа с помощью Дягилева на устроенной им выставке вдруг открыла для себя русскую живопись, в частности, уникальное искусство древней иконописи; потом последовали пять «исторических концертов» русской музыки, на которых исполнялись произведения русских композиторов от Глинки до Скрябина, пел Шаляпин, играл Рахманинов; затем во время организованных Дягилевым гастролей русской оперы европейская публика обнаружила красоту и монументальную выразительность опер Мусоргского, Бородина, Римского-Корсакова, а с 1909 года от сезона к сезону все более поражалась искусству русского балета.