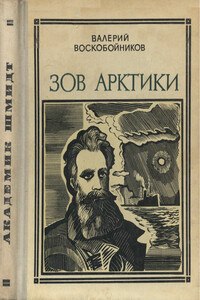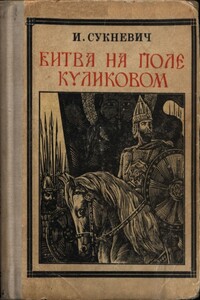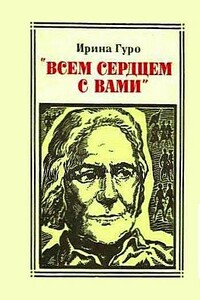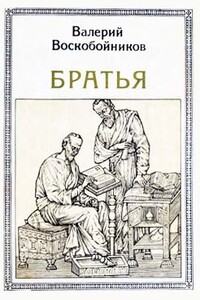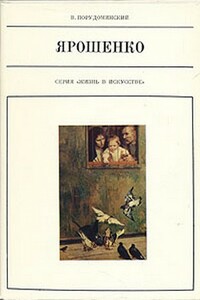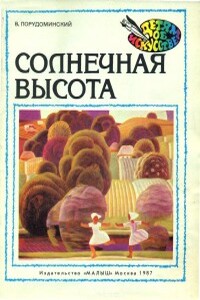Жизнь и слово | страница 46
И словно в подтверждение — две как бы уравновешенные историйки из времен войны и освобождения Болгарии, также Далем вспомянутые. В одном из сливненских двориков он обнаружил раненого болгарина, обмыл и перевязал его раны — два сабельных удара: по голове и по плечу. А в другом дворике встретил раненного в сражении русского воина: болгары прятали его, хотя наш солдат, страшась^ что «самоотвержение» спасителей дорого им обойдется, просил выдать его туркам; «болгары, однако ж, не хотели этого слышать», говорили, что брата своего не предадут, и, поскольку постоянно могли быть застигнуты врагом, передавали раненого «с рук на руки далее». Взаимному состраданию не было конца — вот опа, черточка этой войны.
За ратные подвиги Даля наградили орденом св. Анны, получил он также по окончании кампании «установленную на Георгиевской ленте медаль». Об этом в шуточной автобиографии Владимир Иванович отозвался насмешливо: «Узнал воевода, когда был Иваныч именинник, да подарил ему на ленте полтинник. Служи-де, не робей, напередки будешь умней».
В «Толковом словаре» возле слова «ЧЕСТЬ» Даль помещает пословицу: «Не на кафтане честь, а под кафтаном». И здесь же «чести условной, светской, благородству, нередко условному, мнимому», противополагает честь подлинную, ту, что «под кафтаном», — «внутреннее нравственное достоинство человека, доблесть, честность, благородство души и чистую совесть».
Достоинство, доблесть, благородство души и чистая совесть ведут Даля по военным дорогам. Вот и в сражении под Кулевчами, сыгравшем немалую роль в успехе кампании, он не ждет сложа руки у складного стола для операций — он в гуще битвы, где, рассказывает он, «видел тысячу, другую раненых, которыми покрылось поле и которым на первую ночь ложем служила мать-сырая земля, а кровом небо, толкался и сам между ранеными, резал, перевязывал, вынимал пули, мотался взад и вперед, поколе наконец совершенное изнеможение не распростерло меня среди темной ночи, рядом со страдальцами…».
ДАЛЕВЫ ПОХОДЫ
Даль потом по-своему вспомнит военные походы, принесшие обильные и неоценимые запасы для «Толкового словаря»: «Бывало, на дневке где-нибудь соберешь вокруг себя солдат из разных мест, да и начнешь расспрашивать, как такой-то предмет в той губернии зовется, как в другой, в третьей; взглянешь в книжку, а там уже целая вереница областных речений».
Взглянем вместе с Далем в его книжку — пусть она не сохранилась, что ж, имеем право, если не на вымысел, так на домысел (Даль объясняет: вымысел — выдумка, а домысел — догадка). Слова «реконструкция» у Даля нет, зато есть «воспроизведение», «воспроизвести» с прекрасным, выразительным толкованием: «созидать былое». Попробуем «созидать былое»: от конечного результата, от «Толкового словаря» идя, воспроизведем хотя бы страницу из Далевой записной книжки — и, более того, само заполнение ее, возможное «движение» записи, и, еще более того, обстановку, в которой книжка заполнялась: попробуем воспроизвести одну из таких дневок, приносивших Далю целые вереницы речений.