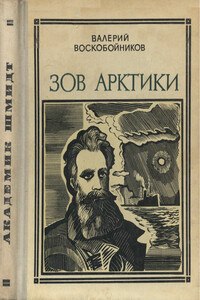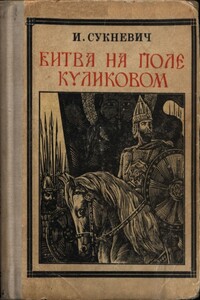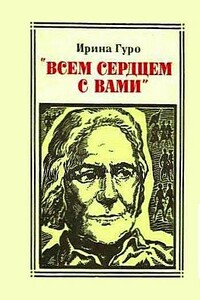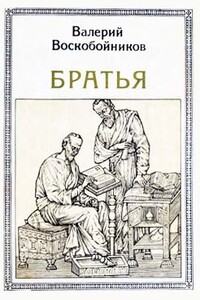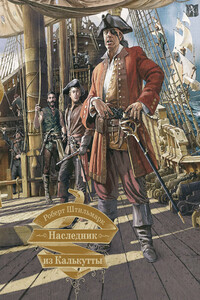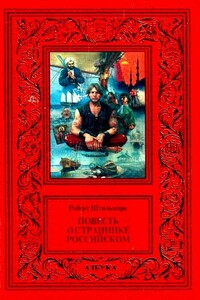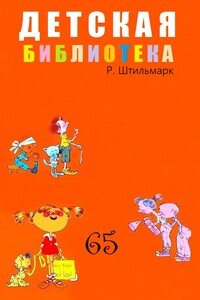За Москвой-рекой | страница 40
Вынашивая «Грозу», он будто ощущал рядом с собою незримое присутствие Косицкой — Катерины, слышал рядом ее дыхание. Он писал Косицкой жаркие, полные страсти письма. До сердечных глубин, до беспамятства влюбился он в эту милую, одаренную и столь нужную ему женщину.
А затем произошло неизбежное: он прямо предложил ей руку и сердце! И получил… решительный отказ!
Она отклонила предложение писателя, стараясь смягчить это решение словами дружбы и преклонения перед талантом Островского. Говорила она о моральной несвободе Александра Николаевича — ведь она была знакома с Агафьей Ивановной, видела Островского в семье, в заботах о малолетних хворых детях — их было к тому времени трое… Пусть брак Островского не был церковным, пусть судьбу детей можно было бы обеспечить материально — все равно Островского нельзя было считать полностью свободным! Да и собственное ее сердце принадлежало… не Островскому! Она призналась Александру Николаевичу, что под этой сердечной несвободой подразумевала не Ивана Никулина, нелюбимого официального супруга. Он находился по-прежнему в отъезде, медленно угасал от неизлечимой хвори, унесшей его уже в 1861 году. А любила Косицкая некоего молодого московского купца. Чем далее, тем сильнее привязывалась артистка к этому человеку, вскоре доведшему ее чуть не до нищеты. Сердечная рана, нанесенная им Косицкой, привела к болезни и печальной, одинокой кончине на 38-м году этой незаурядной жизни. В одном из предсмертных писем она заверила Островского, что его дружба и любовь были высшей радостью в ее творческой и жизненной судьбе.
Но все это произошло позднее, измучив и артистку, и писателя, и тяжко страдавшую Агафыо Ивановну, А тогда, к моменту премьеры «Грозы» в Малом театре, 16 ноября 1859 года, Любови Павловне шел только 33-й год, и перевоплощалась она с присущим ей мастерством в юную, неискушенную Катерину так, будто играла собственную судьбу! Если жизненный путь Катерины и Любови Павловны и не совпадал полностью, то играла артистка такую судьбу, какая была ей очень понятной, близкой, а кое в чем и прямо схожей. В своих «Записках» она вспоминает барина-крепостника, «которого народ звал собакой… Я родилась… на земле, облитой кровью и слезами бедных крестьян… Когда он, бывало, выходил из дому гулять по имению, дети прятались от страха под ворота, под лавки»…
Даже на черновой рукописи «Грозы» есть пометки Островского: «сообщено Л. П.». Косицкая рассказывала писателю эпизоды своей жизни, навеяв ему заветные слова Катерины о ее юности, годах, проведенных в отчем доме, до замужества с Тихоном Кабановым. Самые поэтические, самые светлые черточки в характере Катерины рождены были живыми признаниями Любови Павловны.