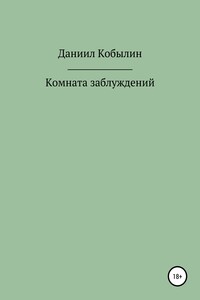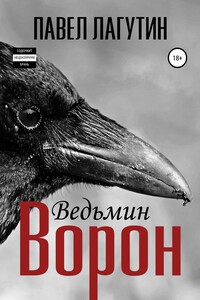Зимний солдат | страница 66
Когда на следующей неделе они разбились на пары, она сказала: «Доктор пойдет со мной». Ее выбор смутил Люциуша, он чувствовал, что остальные переглядываются, но сказал себе, что ничего удивительного тут нет: она остерегается солдат, и правильно делает. Маргарета была в солдатской шинели, подвернутой, чтобы полы не волочились по грязи. На ствол своей винтовки, точно на коромысло, она повесила холщовый мешок. Люциуш понял, что она из горных мест, как он и думал. Он старался не отставать. По камням и бурелому она шагала легко. Опускала ладони без перчаток в грязь и в снег, срывала с деревьев кору, вытирала корневище об одежду, прежде чем куснуть его на пробу. Он поражался тому, что она никогда не сомневается. С другой стороны, ее подход к ранениям был таким же.
В пути они почти не разговаривали. Вокруг весь мир, казалось, обращался в воду. Земля хлюпала, по тропинкам бежали ручьи. Папоротники цвета богомолов распускали листья на грудах черного гниющего мха. От влажной коры поднимался пар, с верхних склонов остатки снега сходили небольшими лавинами, ударяясь об стволы деревьев.
Время от времени они встречали деревенских женщин, которые тоже бродили по узким тропкам в поисках чего-нибудь съедобного. Ему становилось неловко, как будто это их лес, а он его опустошает. Но здесь, в лесу, женщины не выказывали особой подозрительности и по-товарищески улыбались, проходя мимо них по тропе.
Поначалу они не решались покидать свою долину, не вполне веря, что военные действия отступили дальше. Но снег таял и таял, и они продвинулись в соседнюю долину, где половодьем бурлила другая река. Там Маргарета ломала стебель аира и давала Люциушу выгрызть сердцевину или очищала для него лисички. От рук ее по-прежнему пахло дегтярным духом карболки, но грибы не были похожи ни на что известное ему прежде, да и запах карболки он уже успел полюбить. Когда ей хотелось пить, она просила у него фляжку. Его пронзала мысль, что ее губы прикасаются к тому же месту, к которому прикасались его губы, но он тут же возражал себе, что это просто еще один обычай ее мест – она же может взять что-нибудь съестное из его рук, и это ничего не значит.
В их четвертую или пятую вылазку, в апреле, Маргарета спросила, можно ли ей петь.
Конечно, удивленно ответил Люциуш; но ей вовсе не казалось, что это странный вопрос. С тех пор, когда они не разговаривали, она тихонько пела, обычно как бы себе, но иногда как будто для него. Детские попевки и колыбельные, любовные баллады и боевые песнопения, песни о лете, о всадниках, о возлюбленных, о поцелуях украдкой, о плясках, крещениях, свадьбах, Ивановом дне, песни о ночных духах и лесных ведьмах, о волках, кошках и котятах, о ласточках и о соснах. Песни без слов, песни из рифмованных строчек. Иногда он что-то узнавал – это были дальние родственники народных песен, которые он слышал, как правило, от гувернанток, но напевы оказывались иными, более яростными, а манера пения была время от времени странной, как будто гнусавой. Она попыталась научить и его, но он стеснялся, дыхания всегда немного не хватало – в любом случае он предпочитал слушать, глядя, как она идет впереди, как колышется ее монашеское одеяние под шинелью, и позволял себе – на короткий, кратчайший миг – представить себе, что там, под ними.