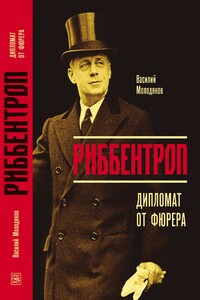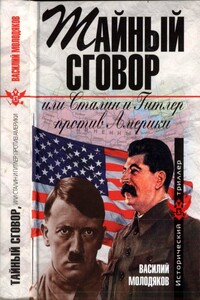Декаденты. Люди в пейзаже эпохи | страница 56
«И все-таки Ты рассердился, – ответил Брюсов 16/29 декабря. – <…> И это очень грустно, потому что я думал, что Ты воспринимаешь все мои слова о Тебе (печатные и устные) на фоне моей давней, моей верной, моей вечно неизменной любви к Тебе. Любовь не исключает критики: я могу находить плохими Твои стихи. Ты можешь считать плохими мои статьи. Но любовь исключает, совсем, окончательно, возможность “рассердиться”, “обидеться”. Ты пишешь мне, что имя Бальмонт – священное имя в русской литературе. Да. Но имя Валерий Брюсов – тоже. Вот почему именно на Валерия Брюсова падает тяжкий долг – говорить Бальмонту то, что другие ему не говорят, не смеют сказать. <…> Твоя самая сильная книга “Горящие здания”. Твоя самая полная книга “Будем как Солнце”. После них начинается падение Бальмонта, сначала медленное, потом мучительно стремительное. В “Злых чарах” только порой узнаешь прежнего Бальмонта и почти плачешь, слыша вновь знакомый, утраченный голос».
Предметом спора «братьев» стала книга Бальмонта «Жар-птица. Свирель славянина» (1907). Автор заявил, что в ней «впервые появилось… славянское поэтическое самосознание», которого «у нас не было». Утверждавший в отзыве на «Злые чары», что «совершенно неудачны почти все попытки Бальмонта подделаться под склад русской народной поэзии», Брюсов ответил в том же письме: «Славянское поэтическое самосознание уже есть: в творчестве наших великих поэтов. <…> Ты никогда не умел писать “стильных” стихотворений, это – вне твоего дарования, и никогда не чувствовал русской стихии, это вне Твоей души. <…> Склада русского былинного стиха, который Ты пытаешься перенять, – Ты не понял совершенно». Бальмонт в ответ защищал свою русскость: «Ты ведь не умеешь отличить кукушкины слезки от подорожника, ты не знаешь, что такое заячья капустка, и что такое росинка на дреме. <…> Ты не знаешь, что такое Иванова Ночь, и папоротник. <…> И сколького ты еще не знаешь и не узнаешь никогда в этой жизни. Так тебе ли говорить о понимании, до глубины, Русской Стихии, этой Великой Деревни. <…> Ты проклят Городом и отравлен им». Он говорил о своем знании и чувстве природы, но адресат имел в виду другое – поэтическое воплощение. А потому в начале подробной рецензии упрекнул поэта: «Повидимому, находя, что наши русские былины, песни, сказания недостаточно хороши, он всячески прихорашивает их, приспособляет к требованиям современного вкуса. <…> Но как Ахилл и Гектор были смешны в кафтане XVIII века, так смешны и жалки Илья Муромец и Садко Новгородский в сюртуке декадента»