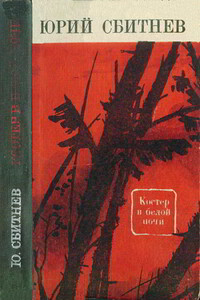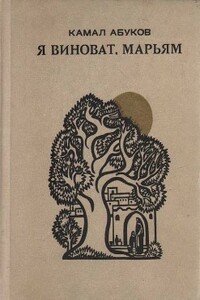Частная кара | страница 24
На рапорте о возможности перевести Бестужева-Марлинского в гражданскую службу, отбывшего к тому времени десять лет тяжелых наказаний (Алексеевский равелин Петропавловской крепости, ссылка в Якутск, а оттуда на Кавказ рядовым), Николай Павлович начертал собственноручно: «...не Бестужеву с пользой заниматься словесностью; он должен служить там, где сие возможно без вреда для службы. Перевесть его можно, но в другой батальон».
Бестужев был переведен... из пятого черноморского батальона в десятый, в котором и погиб 7 июня 1837 года при взятии мыса Адлер.
И еще собственноручная резолюция, сделанная на рапорте, в котором один из ревнителей крайних мер требовал двум несчастным смертную казнь всего лишь за нарушение карантинного режима. Николай написал на рапорте:
«Виновных прогнать сквозь тысячу человек 12 раз. Слава богу, смертной казни у нас не бывало и не мне ее вводить».
И это спустя чуть более года после казни пяти декабристов. Тут ключ всей государственной политики Николая Первого...
13. В больничном флигеле, куда сестры приносили сведения о больных детях и принимали передачи, было много народу. Стахов не сразу нашел Антонину. А когда увидел ее издалека, почувствовал к ней необоримую жалость.
Она толкалась среди сгрудившихся вокруг сестер, стараясь что-то высмотреть или услышать. Вытягивала шею, и лицо ее, большое и бледное, мелькало среди других, выделяясь какой-то незащищенной беспомощностью.
Разглядывая издали Антонину, Стахов не находил в себе ни решимости, ни обиды, которой терзался с момента получения телеграммы, ни твердого желания изменить отношения и ничего другого, кроме жалости к ней.
Так бывало не раз, и это было продолжением привычных отношений.
Жалела ли его Антонина, винила ли себя в более чем беспокойной жизни, Стахов не знал. Ему казалось, что нет.
Антонина вдруг, как от окрика, оглянулась. Увидела Стахова, по-детски скривила большое лицо, торопливо и рыхло напудренное, пошла незряче, вытянув вперед руки.
Подошла, испытующе глянула полными слез глазами в глаза Стахову, упала головою к нему на грудь и громко заплакала. И Стахов, весь сжавшись от желания обнять и успокоить, все же попытался отстранить ее.
— Что? Что с Алешей? — спросил, удивляясь тому, что боль о сыне пресеклась жалостью к ней.
Она что-то говорила сквозь слезы и рыдания, но ничего нельзя было понять...
Конечно, надо, забыв обо всем — о сыне, о горьких последних летах их совместной жизни, когда было высказано друг другу столько резкого, непримиримого и столько правды, о том решительном разговоре на даче и после, по дороге в Крайск, — надо, забыв, приласкать эту бедную женщину, снова прикрыть ее, как делал раньше, снова озаботиться ее покоем, вытереть ей слезы, пообещать, наговорить что-то, что успокоило бы, но Стахов не сделал этого.