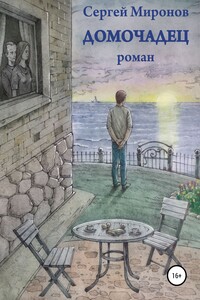Между собакой и волком | страница 20
9. Картинки с выставки
Друг семьи, разъездной чиновник, чьи предки, сицилианские негоцианты, прикатили когда-то в Россию за партией tarantasos и на обратном пути навечно застряли в непролазной грязи где-то меж Конотопом и Сызранью, и чей портрет блистает отсутствием в экспозиции, принимает участие в нашем герое. Когда последний, по выражению первого, входит в действительный курс респектации, чиновник рекомендует юноше пуститься по своим стопам и составляет ему протекцию для поступления в разъездное училище. Судьба художника была решена. Лик его, наделенный приметами изысканной чувственности, выделялся из лиц остальных наездников ясной высказанностью характера и томнооко и полногубо реял над кавалькадой. Физиономии же однокашников были посредственны, уши у многих, словно бы для того, чтобы лучше улавливать цокот копыт, безнадежно оттопыривались. Из окон класса всякий час – река-клоака, и зачастую восторженный отрок дерзает морячить по ней на монструозном корыте. Как неотвязно за лопастями весел тянется и бумага, и тина! Янко не боится ни ветра, ни волн, вырастет – очнется в сумерках бытия кухмистером скользкой от сала кухмистерской. Методическое помешивание черпаком, коловращение скверно пахнущих жиж вдруг живо напомнят картины беспечной давности, пору лодочных одиночных гонок с самим собой – воспаленным, мозглявым, когда по утрам хари окрестных строений обморочно зияют в грязно-желтой больничной мокроте окраинных растуманов и та – верно, рябая и гнилозубая – девочка за фанерною перепонкой, собираясь в свои дефектологические университеты, хнычет над рассыпавшимися по полу школьно-письменными принадлежностями и поет безмотивно и нескончаемо – дождик-дождик, перестань, я поеду в Арестань: одиннадцатилетняя, заячьегубая, пьянозачатая, – а ты на заре своей бедной юности просыпаешься, обсыпанный цыпками и лепестками белил, отлетевшими от потолка, просыпаешься, стараясь понять: ты ли это или кто-то другой просыпается тут и не знает: он ли это или кто-то другой, например – тот же ты, но такой же затурканный рахитос просыпается здесь, обреченный невзгодам малокровного дня, а мать шелестит газетой, шуршит плащом, хрустит замком и уходит в бухгалтеры в пошивочную имени политика Разина: Степан Тимофеич, куда вы задевали гроссбух? Между тем, среди разъездных механизмов образца батальных годов шагал неладно скроенный да крепко пошитый лихой военрук в подтяжках, предупредительно облачив стул в добросовестно отутюженный френч. Прибывал доброутренний, по-гвардейски румяный, с четою бесстрашных, словно бы, полных ужаса, пепловатых навыкате глаз.