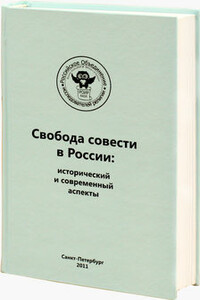Литургия смерти и современная культура | страница 54
Литургическая традиция
Теперь, после «культуры» и «веры», обратимся к нашей литургической традиции. Ее можно разделить на две части. Во-первых, в погребении, в обращении со смертью тела мы обнаружили два существенных «слоя». Один я назвал «слоем Великой Субботы», входом в смерть как в покой Христа, а второй мы можем определить как «слой оплакивания и страха». Итак, первая часть — это погребение, состоящее из двух «слоев» — Великой Субботы и оплакивания и страха. Ко второй части нашей литургической традиции относится «поминовение», которое имеет дело не со смертью как таковой, а с «усопшими» после смерти; это — молитвы за усопших, заупокойные молитвы. И здесь мы тоже находим два «слоя». Во-первых, общецерковное «поминовение», то, что мы забыли, но что пребывает всегда и должно быть открыто заново: вся литургия как «поминовение», память о том, что усопшие не исключены ни из одной части литургической жизни Церкви — ни из Пасхи, ни из Евхаристии, ни из каждого существенного выражения нашей жизни. Второй же «слой» — это «частные» поминовения.
Таким образом, наша литургическая традиция — многослойна и сложна.
Стремление к кафоличности
И вот после напоминания о том, что мы уже обсудили, поставим вопрос: «Как нам все это объединить, как преодолеть неразбериху?» (Неразбериха эта происходит, в частности, и от богатства нашей традиции, не всегда от ее недостатков, отнюдь не от недостаточной развитости традиции.) Очень трудно быть «кафоличным» (не римокатоликом — это-то довольно просто, или было просто!), потому что «кафоличность» означает «держание вместе» всех вещей, что, как учит апостол Павел, нам очень трудно делать, даже после возрождения в Крещении. Нам трудно совместить сокрушение с воскресением, нам трудно видеть мир в его целостности, как видит его Бог. Поэтому мы сегодня пытаемся, в первую очередь, совершить усилие кафоличности, пытаемся увидеть, как все вещи — культура или отсутствие культуры, двадцатый век или любой другой, мое положение в жизни или ваше — могут и должны быть «преодолены» в достижении «кафолического видения».
Исторически (я начинал свою богословскую жизнь как церковный историк) у нас была, так сказать, «ориентированная на смерть» Церковь, которая существует кое- где и сегодня. Это — Церковь, в которой священник в основном отводит себе роль «служителя» своих прихожан в критические моменты их жизни: «рождение, свадьба, смерть» — вот события, которые требуют его участия. В остальное время он — мудрый советчик, общественный деятель, человек, с которым необходимо обсуждать роспись Церкви (причем только он, священник, должен решать, как ее расписывать, и никто другой!). Но если раньше Церковь была «ориентирована на смерть», то сегодня существует опасность того, что она превратится в «ориентированную на жизнь» Церковь, не во что-то «единое, соборное и апостольское», а в собрание бойскаутов, молодых взрослых, старых взрослых и т. п., то есть в собрание «активистов» всяких мастей. Пора нам понять, что все эти клубы, даже если их, скажем, пятьдесят пять, схожи в одном: все их члены — потенциальные трупы! Именно об этом заставляет нас забывать наша «отрицающая смерть» культура. Таким образом, из «черной Церкви» мы можем сегодня перейти в Церковь, которая будет благодарить «культуру» за это мирное и скорое «уничтожение смерти», чтобы мы могли наконец-то «заняться жизнью». Вот очередной удар по кафоличности!