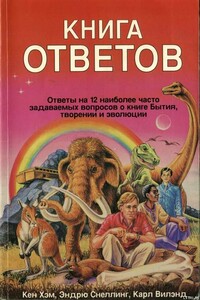Литургия смерти и современная культура | страница 34
Этот псалом говорит о том, что эта вольная смерть, будучи только любовью, только послушанием, только наивысшим исполнением заповедей Божиих, есть, таким образом, «бессмертная смерть», смерть, которая побеждает и уничтожает последнего, главного врага Бога. Так объясняется особое положение этого псалма в церковном богослужении. Во-первых, мы его слышим на еженедельном воскресном всенощном бдении, когда Церковь празднует День Господень. К сожалению, все, что осталось от этого псалма в нашей укороченной воскресной утрене, — это так называемые тропари по Непорочных, каждый их которых начинается стихом «Благословен еси, Господи, научи мя оправданием Твоим», — тропари, которые, так сказать, «запечатывают» пасхальной радостью смысл смерти и воскресения Христа, который раскрывается в псалме. Потом, как я уже говорил, мы слышим этот псалом на утрене Великой Субботы, а также за неделю до этого, на утрене Лазаревой Субботы. И, наконец, этот псалом поется на заупокойной службе. Функция псалма 118 во всех этих службах одинакова: он не только «относит» каждую из них к наиважнейшему и решающему для христианской веры событию — смерти Христовой, но и раскрывает эту смерть в самой ее реальности, ее поистине вечной реальности, и значении для Церкви, а через Церковь — для всего мира и каждого из нас.
Как же можно в свете вышесказанного определить специфическую функцию псалма 118 в нашей заупокойной службе? Ответ довольно прост, хотя, возможно, не таков, какой ожидал бы услышать обычный православный человек. Его функция — отождествить этого конкретного усопшего (брата или сестру, почивших о Господе) с Самим Христом, отождествить его смерть с Его смертью. Ибо что означает, что мы «умираем во Христе», если не то, что Его единственная в мире смерть, единственная бессмертная смерть, дается и нам как наша смерть? Наша смерть, принимаемая в Христову смерть, очищается, исцеляется и освобождается от смерти — от смерти как искажения и разделения, от смерти, чье жало — грех (См. 1 Кор 15:56), дабы она стала входом не в смерть, даже не в какое-то таинственное «существование», но в единение с Христом (Который есть Жизнь всей жизни), в страну живых, в «место светло, место злачно, место покойно», во свет лица Христова, туда, где «лицы святых... и праведницы сияют, яко светила».
Этот псалом раскрывает нам, что каждая смерть — это вход в огромную и светлую тишину Великой и Святой Субботы, благословенной Субботы, в утро невечернего дня Царства Божия. Таким образом, то, что древняя Церковь знала и переживала с самого начала, о чем она свидетельствовала и что утверждала выразительными надписями на гробницах: «Он жив», «Она жива», теперь превратилось в литургическое торжество, уникальное в своей глубине и красоте.