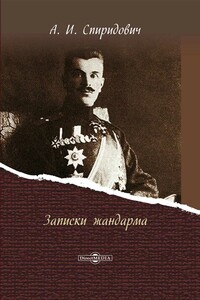Мой мальчик, это я… | страница 53
Да, так вот... теперь я написал: «Прошу меня освободить от должности главного редактора журнала „Аврора“ в связи с неспособностью переориентироваться для подростков, а также в связи с уходом на творческую работу». Заявление отправил в три адреса: секретариат Союза писателей, обком КПСС, ЦК ВЛКСМ. Пусть там решают, а я... остаюсь при исполнении обязанностей в подросточном журнале. Как-то жаль, что журнал останется без меня, хотя в этом, я знаю, есть самообольщение.
Посетил секретаря обкома 3., занявшего кабинет А., тот выслужил свой срок в Смольном, переместился — до пенсии — на профсоюзную синекуру. 3. был розов, его лицо лоснилось. Свет лампы отражался от лица, как отражается свет от никелированного чайника. 3. почти ничего не сказал, а то, что он сказал, было необязательно, расплывчато, как взгляд его отроческих безгрешных глаз. Он был лысоватый, непроницаемый, непостижимый, походил на посаженную в кресло куклу, с нарумяненными щеками.
Володе Торопыгину вырезали легкое, ему не стало легче без легкого. Легкое, быть может, для легкости? Без легкого тяжело...
Зашел к Володе, привезенному из больницы, посмотрел ему в исстрадавшиеся глаза, обращенные ко всем с вопросом: за что? — и зарыдал. И он тоже горько заплакал. Мы с ним обнялись, рыдали на груди друг у друга, каждый о своем.
Привычный, исхоженный круг мыслей: застрелиться? нет револьвера. Из ружья? порох старый, вдруг потерял убойную силу? И ружье не перерегистрировано, как-то неудобно, все же законопослушный гражданин. Читал рассказ Белова «Чок-получок», о том же самом. Сочувствия во мне этот рассказ не вызвал. Позвонил наш парторг: надо выступить на партсобрании о Нечерноземье. Прислали анкету: что происходит с рассказом? Сел за ответ на анкету, но оторвался, прочел рассказ Бунина «Игнат», про пастуха, пробавляющегося скотоложством с борзой Стрелкой, и про его распутную жену Любку. Понял, что никаких анкет не надо, ибо таких рассказов, какие писал Бунин, нам никому не написать. С рассказом произошло то самое, что со всеми нами: мы стали как ручные кролики, боимся дядьки: дядька возьмет за уши и унесет на разделку.
Принимал эстонцев. Моя готовность распнуться в дружеских чувствах, нравственно обняться с любым не вызвала отклика в них. Эстонцы сидели надутые, как индюки. От водки еще более надувались.
После всего опять зашел к Володе. Мы выпили коньяку. Он рассказал: «Нас положили в реанимацию вдвоем с таким молодым парнишкой, ему тоже легкое вырезали. И, знаешь, нам так плохо, так плохо, и здесь плохо, и здесь, везде больно. Он мне говорит: „Давай посмеемся“. Нам надоело кряхтеть, стонать, плакать. Мы не знаем, что делать, так плохо. Он говорит: „Давай посмеемся“».