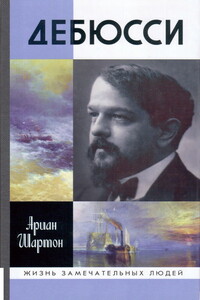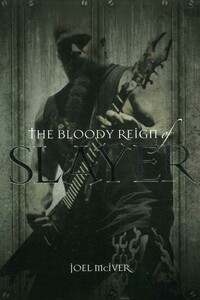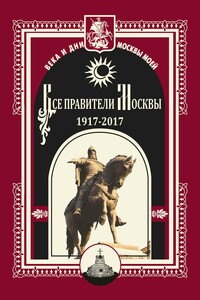Мой мальчик, это я… | страница 50
Директор дома-музея Достоевского в Старой Руссе Георгий Иванович Смирнов, в черном костюме, в белой сорочке, с темным галстуком, был настолько бесплотен, что грехам, ежели бы они вдруг обуяли его, решительно не в чем было бы угнездиться. Он говорил: «Я перенес тяжеленный инсульт, прободную язву. Но я себя прекрасно чувствую. Плоть преходяща, а дух бессмертен. Мы с вами сидим в доме Федора Михайловича, хозяин слушает нас. Я думаю, он не обидится на нас за это вторжение. Сюда приходят только хорошие люди, с чистой душой. А если приходят гадкие люди, я их гоню. У меня повышенная чувствительность на эти вещи. Гипертрофированная гадливость. Хотя вообще-то я добрый, верю, что дух Достоевского имеет всеобщее воздействие, на всех проливает свет. И вошедший в его дом выйдет просветленным».
В войну Георгий Иванович командовал батареей гаубиц. У него столько же боевых наград, сколько ранений. Во времена Хрущева, несогласный с загибонами «нашего Никиты Сергеевича», он пришел в райком, представил свои возражения генсеку. Когда его стали прорабатывать, положил на стол партбилет. Директором музея Достоевского в Старой Руссе Георгий Иванович Смирнов стал самостийно, с него музей и начался. Привез из Питера найденные там личные вещи Федора Михайловича: зонтик, подсвечник. Музея еще не было, в доме Достоевского на берегу Перерытицы помещалась музыкальная школа, но достоелюбы уже знали, что в Старой Руссе есть Георгий Иванович; письма к нему доходили без адреса. До директорской ставки было томительно далеко, музей создавался на пенсию Георгия Ивановича. Но все вышло согласно решимости этого смешного человека...
В редакции мне доложили, что есть постановление ЦК переориентировать наш журнал для подростков. Я мельком подумал, что это все равно, как если бы постановили мне переориентироваться в канатоходца. Вообще у меня двойственное отношение к партийному предначертанию: я достиг какого-то предела в должности главного редактора, больше не хочу им быть, хватит, но я также знаю, что «Аврору» переделать в нечто другое нельзя, это будет предательством по отношению к ее молодым авторам, к литературе, которой хотелось послужить. Публикацией в журнале открывается новое имя в литературе, за каждым именем особенный мир. На то и журнал — открывать миры, из тысяч слов крупицы правды, таланта, наставлять входящего в литературу на путь, внушать ему, как это серьезно, ответственно. И после стать костью поперек горла — правдой, талантом — директивным органам или еще кому-то... Что я скажу Володе Насущенко, немолодому, поздно увидевшему свой первый рассказ в журнале — с его печально-нежной, жестокой, как прожитая им жизнь, прозой? Как заметил один из его героев: «Пожить было некогда, то война, то пятилетка». Для подростков, кажется, пишет один Алексин. И кто такие подростки — от двенадцати до восемнадцати? Но двенадцать одно, восемнадцать совсем другое. И зачем резать по живому, губить содеянное? Столько всего зарезано, загублено...