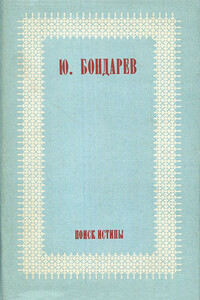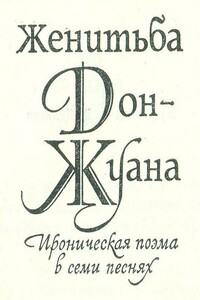Наше время такое... | страница 41
Здесь он глядит на свое поколение вместе с нами, судит его вместе с нами, Неверующий не мог бы так мучиться, как мучился он, не мог бы так жестоко судить о своем времени, как судил он. Гейне, например, тоже апостол, но среди апостолов он — Фома неверующий. Природа его иронии от неверия, хотя по уму, и таланту, и темпераменту он оставался бойцом.
Для нас, переживших величайшую социальную войну, наследие Лермонтова имеет особое значение. Оно помогает нам глубже понять и развязать трагические узлы, завязанные в минувшие десятилетия.
Для того чтобы обострить трагедию своего земного героя, Лермонтов превратил его в Демона и поднял в надзвездные миры. Высота и широта умственного охвата нынче нужна еще больше, чем прежде. Отечественная война дала нам примеры, как на судьбе человека скрещиваются мировые силы. Само разделение мира на два лагеря уже чревато множеством драм и трагедий. Мы не прочитаем их в человеке, если не будем на него смотреть как на мировую величину. Для этого его нужно, если не вознести, как Лермонтов вознес своего Демона, то приподнять, чтобы отчетливей проявилось скрещение мировых сил.
Пророчества удаются поэтам. Наш советский человек взлетел в космос и увидел, что Земля, как у Лермонтова, действительно окружена голубым сиянием.
Лермонтов вошел в мою жизнь рано. В первых двух классах я знал лишь отдельные стихи, а в третьем за несколько дней проглотил большой и толстый однотомник, завезенный в деревню моими старшими братьями. Писать стихи я начал еще до знакомства с ним, но сейчас помню одно из моих мальчишеских стихотворений, написанных под воздействием строк: «На севере диком стоит одиноко...» Мое начиналось так: «На дикой поляне росла одиноко береза с кудрявой главой...» Дальше рассказывалось, какая печальная участь постигла эту березу, как стонала она под крестьянским топором.
Года через три после этого Лермонтов познакомил меня с Байроном. Я уже целиком доверял ему, а стихи «Нет, я не Байрон, я другой...» прозвучали для меня рекомендацией к знакомству. При первой же поездке в город я купил и прочитал «Чайльд Гарольда». Стали понятней и родней лермонтовские строчки: «Как он, гонимый миром странник, но только с русскою душой». Видимо, тогда у меня появилось желание написать нечто вроде послания другу, в котором я изображал его баловнем судьбы, а о себе говорил несбывшееся: