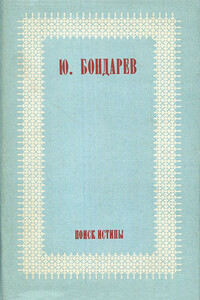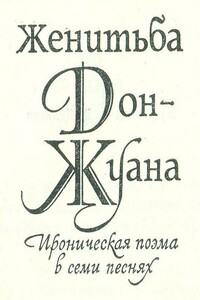Наше время такое... | страница 29
Меня приняли в партию — кандидатом — в 1943 году. Не поступлюсь истиной, если скажу, что как поэт я родился из чувства социальной новизны, которым в огромной мере обладало старшее поколение. Тут нет моей личной заслуги. Просто это чувство не должно было пропасть. Все стоящее в моих стихах надо относить на счет этого чувства. И вообще, на долю поэтов — моих сверстников выпала нелегкая роль связующего звена двух поколений: того, что шло от Революции, и того, что пришло за нами.
Есть и нравственная сторона этой проблемы. Мне кажется, в больших семьях, как наша, вместивших разные характеры, представляющие разные сферы жизни, в семьях, остро переживших социальные переломы, рождение поэта — явление такое же закономерное, как Алеша в семье Карамазовых. Должна же на чьей-то душе оседать семейная соль, и не только, должны фиксироваться и осмысливаться проявления противоречивых характеров в движении и неизбежной дробности. Психологически в поэте такие семьи хотят обрести утраченное единство. Некоторые из этих мыслей были осознаны мной давно, но не сразу стали фактом поэзии.
Путь мой был до странности трудным.
Итак, писать я начал рано, а печататься активно очень поздно. Виной тому, вероятно, послужила моя первая попытка появиться в газете «Большевистская смена» — той самой, что напечатала в свое время очерк о брате. Это было в Новосибирске, кажется в 1936 году, когда я учился в авиатехникуме. Послать стихи в газету меня натолкнул тот факт, что на конкурсе техникума я получил за них первую премию. Друзья начали советовать: «Пошли... А вдруг!..» Подписался я семейным прозвищем: Василий Лехин. Для маскировки. Отослал и стал терпеливо ждать того номера, где... И дождался. В обзорной статье о присланных стихах от Василия Лехина летели клочья. Мои стихи оказались упадочными. Если бы автор критического обзора знал, что за стихами Лехина скрывается семнадцатилетний паренек, он бы не был таким строгим. Теперь подозреваю, что строгому рецензенту попали и такие мои стихи, в которых наверняка несправедливо я ополчался на высокую, стройную девушку, не заметившую моей любви к ней.
А дальше — и того хлеще. И все же рецензент спутал упадочность с чем-то другим, может быть, с моей черноземной грубостью. С этими строками было ясно, но почему в разряд упадочных попало стихотворение, хоть и грустное, но далеко не безнадежное: