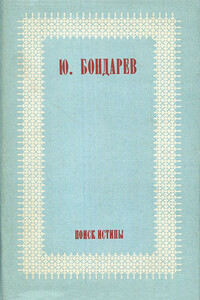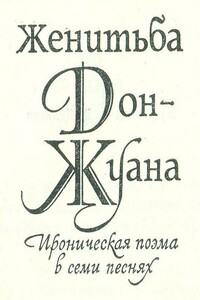Наше время такое... | страница 24
— Откуда это?
— Колхозные.
Веник тут же загулял на мне. С этим же веником она примчалась в правление. Надо представить, что было там, если запыхавшийся председатель подкатил к дому, забрал меня и мешок для передачи его уже другому кассиру. И этот факт имел то последствие, что никогда потом я не брался за финансовые дела и избегал всего, что было связано с чужими деньгами.
Тот год был уже богатым. Колхозники получили по девять килограммов пшеницы на трудодень. У нас в горнице был устроен большой закром, наполненный пшеницей. В ней я прятал от любопытных братишек свои стихи. Иногда они их обнаруживали и надо мной издевались, что делало меня еще больше замкнутым не только с ними, но и с мамой. Но и стихи я читал маме редко, потому что они были про любовь, а я по-детски думал, что мамы вообще в любви ничего не понимают, тем более в стихах.
Помню, в новосибирской квартире старшей сестры, где мы долго жили, был закуток, нечто вроде ванной, где ванны, однако, не было, а стояла деревянная бочка. В ней хранился мой литературный архив. Ко времени отъезда в Литературный институт имени Горького она была полной. Однажды, по приезде домой, мама подвела меня к этой бочке.
— Тут у тебя какие-то бумаги. Может, что не нужно, так отбери на растопку.
Бочка была большая. Запустил в нее руку, взял первое попавшееся. Посмотрел, ощутил какое-то смущение. Разбираться в хаосе бумаг не захотелось. Видимо, сказалось и высокомерие столичного студента к тому, что делал раньше. Сказал:
— Да бери все, только вот, где будут короткие строчки, — это стихи, ты их оставляй.
Мама даже обиделась:
— Ну, разве я не понимаю. Где стихи, я вижу...
Годом раньше в такую же минуту стыдливости я сжег две общие тетради, сшитые вместе, по всем клеточным линиям с двух сторон исписанные стихами. Не менее двухсот стихотворений. До этого в литобъединении меня уговорили почитать свои стихи. Готовясь к чтению, я и взялся перечитывать эту пухлую тетрадь. Как на зло почти во всех стихах, которые собирался прочесть, вдруг обнаружились постыдные недостатки. Вообще, я замечал, что недостатки в собственных стихах обнаруживаются быстрее, когда собираешься выйти с ними на люди. В это время рядом топилась плита...
Потом лишь в минуты душевной слабости я жалел об этом, когда память воскрешала отдельные строфы и не удерживала другие. Но в том-то и дело, что память возвращала только что-то стоящее, — значит, о выпавшем из нее не стоило жалеть. В этой мысли поздней меня укрепил А. Твардовский. На Первом совещании молодых писателей я дал ему поэму «Марьевская летопись», которая ему понравилась, и он оставил ее у себя с желанием где-то напечатать. Однако месяца через два я получил от него письмо, в котором он посоветовал, чтобы я, отложив рукопись поэмы куда-нибудь подальше, переписал ее по памяти. Так что отдельные стихи из соложенной тетради возвращались к жизни почти по его мудрому рецепту.