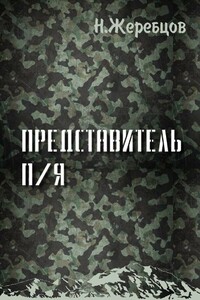Четыре жизни. Хроника трудов и дней Павла Антокольского | страница 18
«Кафе это было, — вспоминает Антокольский в автобиографии, — странное и подозрительное учреждение, где вместо кофе подавали заваренный на кипятке толченый уголь, подслащенный зловещим сахарином, а у бедных неизвестных поэтов не было никаких слушателей, за исключением друзей да нескольких угрюмых командированных, не знавших, как убить вечер».
Здесь Антокольский впервые увидел Валерия Брюсова, стихами которого уже давно увлекался. Брюсов редактировал тогда временник Литературного отдела (Лито) Наркомпроса «Художественное слово». Вокруг Брюсова собиралась поэтическая молодежь — А. Адалис, С. Буданцев, В. Ильина, В. Ковалевский. «Он был, — пишет Антокольский, — отличным, страстным и преданным делу организатором и руководителем поэтической молодежи, отдавался добровольно взятым на себя обязанностям с огнем, с полемическим задором».
Брюсов видел в молодежи незнакомое племя, рожденное первыми годами революции, молодежь видела в Брюсове одного из лидеров символизма, смело и открыто перешедшего на сторону революционного народа. Облик этого человека был полон своеобразного обаяния, — вот к кому можно целиком отнести известные слова Маяковского о людях, бросающихся в коммунизм «с небес поэзии». Его считали декадентом и мистиком, а он с первых дней революции пошел к ней на службу, да еще «с огнем, с полемическим задором».
«Что знали о нем, «декаденте», поэте трудном и странном, — пишет о Брюсове В. Швейцер в своей книге «Диалог с прошлым», — те, кто не видел его в революционной Москве, когда чуть свет, поеживаясь от холода, спешил он по пустынным улицам в литературный отдел Наркомпроса. Лито — барский, неуютный и нетопленный дом. Брюсов сидел здесь в шубе, диктуя инструкции литературным инструкторам, которые должны были сетью охватить огромную полуграмотную Россию и превратить ее в страну поэтов и небывалого расцвета литературного мастерства».
Для того, чтобы превратить революционную Россию «в страну поэтов», нужно было их прежде всего воспитать. Много лет спустя, когда у самого Антокольского появились многочисленные ученики, он не раз вспоминал Брюсова — может быть, именно этот суховатый человек со всеми внешними признаками поэтического мэтра и научил его строгому и в то же время глубоко сердечному интересу к молодежи.
Во второй книге временника «Художественное слово», вышедшей в 1921 году, были напечатаны два стихотворения Павла Антокольского.
Так с благословения Брюсова в советской поэзии появилось новое имя. На страницах временника оно соседствовало с именами В. Брюсова и К. Бальмонта, Б. Пастернака и И. Аксенова, В. Александровского и М. Герасимова, В. Казина и С. Обрадовича, А. Адалис и С. Буданцева.