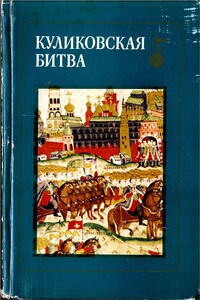Русско-польские отношения и балтийский вопрос в конце XVI — начале XVII в. | страница 59
В контексте русской балтийской политики односторонние уступки в пользу Швеции представляются, таким образом, немотивированными. Если же принять во внимание, что, решая вопрос о Прибалтике, русское правительство в тог момент рассматривало сложившиеся в этом районе отношения в рамках того большого плана перестройки международных отношений в Восточной Европе, осуществление которого начиная с лета 1599 г. стало главной задачей русской внешней политики, то действия России станут понятными. Для осуществления этой главной задачи русское правительство, несомненно, нуждалось в том, чтобы привлечь Швецию в состав антипольской коалиции. С этой точки зрения вступление шведских войск в Эстонию было даже выгодно, поскольку тем самым герцог Карл оказывался в состоянии конфликта не только с Сигизмундом, но и с Речью Посполитой, и его заинтересованность в осуществлении русского плана существенно повышалась.
Ведя к обострению польско-шведских отношений и одновременно демонстрируя искреннюю заинтересованность России в сотрудничестве со Швецией, сделанные уступки должны были облегчить русским послам в Стокгольме решение главной задачи — заключения русско-шведского союза, направленного против Сигизмунда и его сторонников в Речи Посполитой. При этом следует учитывать, что русское правительство, несомненно, возлагало серьезные надежды на то, что в обмен за оказанные услуги ему удастся добиться от шведского правительства уступки Нарвы[273], что, даже в случае неблагоприятного исхода с Максимилианом, обеспечивало России выход к Балтийскому морю. В случае же благоприятного развития событий русское правительство, по-видимому, не намерено было связывать себя условиями русско-шведского соглашения. В этом убеждает отношение русского правительства к королевичу Густаву. После захвата Эстонии шведскими феодалами этот принц, казалось, стал для русского правительства практически бесполезным. Однако он продолжал жить в столице и пользоваться вниманием двора, хотя уже весной 1600 г. русские власти имели в своем распоряжении точные данные, показывающие политическую ненадежность кандидата в ливонские правители