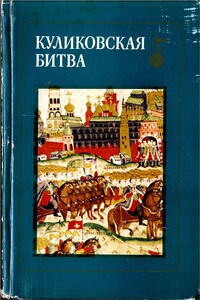Русско-польские отношения и балтийский вопрос в конце XVI — начале XVII в. | страница 36
Суть русского предложения, таким образом, заключалась в том, что в обмен за шведский нейтралитет оно было готово подписать мир на выгодных для шведской стороны условиях.
Предложение было принято[163], и в начале мая 1595 г. в Тявзине представителями сторон был парафирован текст договора о «вечном мире» между Россией и Швецией[164], в основу которого лег представленный русским правительством проект.
Заключение «вечного мира» со Швецией на таких условиях означало отказ для России на неопределенно долгое время от активной политики на Балтике и правовое закрепление посреднической роли ливонских купцов — подданных Швеции в экономических контактах между Россией и Западной Европой[165]. Этот «вечный мир» был вместе с тем признанием того, что, пока существует польско-шведская уния, русское правительство не может рассчитывать на улучшение позиций России в этом регионе. Одновременно стремление заручиться нейтралитетом Швеции говорит о том, что в России на протяжении ряда ближайших лет допускали возможность крупного конфликта с Речью Посполитой[166] и готовы были пойти на большие уступки, чтобы избежать войны с польско-шведской коалицией. Учитывая, что на данном этапе польско-шведских отношений возможность совместного выступления Речи Посполитой и Швеции против России была практически исключена, уплаченную цену следует признать чрезмерно дорогой.
Однако, опасаясь нового обращения польско-литовских феодалов к политике восточной экспансии, русское правительство не ошибалось. Во второй половине 90-х годов господствующий класс Речи Посполитой охватила новая волна экспансионистских настроений. На сеймиках, созванных в начале 1598 г., шляхта обратилась к правительству с просьбами принять меры для возвращения Северской земли[167], а в кругу руководящих польско-литовских политиков шло обсуждение проекта «унии» с Россией, по которому бездетному царю, по-видимому, предполагалось навязать в наследники польского короля[168].
Резкие изменения, наступившие в 1598 г. в отношениях между Речью Посполитой и Швецией, заставили польско-литовских феодалов временно отказаться от своих планов и одновременно открыли для России возможность, уклонившись от ратификации Тявзинского договора, возобновить борьбу за выход к Балтийскому морю.
Глава II.
Поиски решения балтийского вопроса в союзе с Габсбургами и Швецией
Распад польско-шведской унии и русская внешняя политика
Заключение Тявзинского мира явилось толчком к обострению внутриполитической борьбы в Шведском королевстве. Теперь, когда прочность восточной границы была твердо обеспечена русско-шведским мирным договором, могущественная оппозиция уже не нуждалась в политической поддержке Речи Посполитой, а следовательно, и не имела оснований для сохранения компромисса, заключенного в 1594 г. с королем Сигизмундом, Осенью 1595 г. съезд представителей сословий в Седёрчепинге провозгласил герцога Карла единоличным правителем государства в отсутствие короля и одновременно запретил католическое богослужение в стране, что было прямым вызовом королю Сигизмунду и его политике. С этого момента борьба партий стала обостряться. К 1597 г. между королем и правителем наступил открытый разрыв, и обе стороны стали готовиться к тому, чтобы разрешить свой спор оружием. Обострение борьбы сопровождалось и географическим размежеванием сил. Если в собственно Швеции герцог Карл сумел подавить оппозицию, то в Эстонии и Финляндии власть по-прежнему оставалась в руках лиц, назначенных королем.