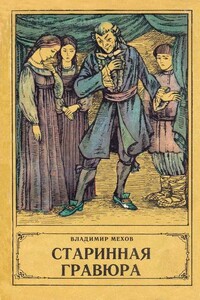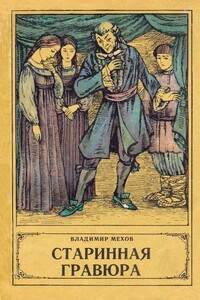Просто голос | страница 37
Назавтра вышло недоразумение с пони, я вернулся домой в крови и полуобмороке и, пока отец притворно смотрел в сторону, не проронил ни слезинки. Няня перевязала мне руку и уложила в постель, сердито ворча под нос, хотя и остерегаясь явно обрушиться на отца. На правах больного, а может, и впрямь на грани бреда, я попросил позвать Иолладу. Приведя ее, Юста решила, что надо мной довольно опеки, и оставила нас вдвоем.
Дальше было как во сне или под водой, и только поршень боли в предплечье толчками выбрасывал меня на поверхность. Иоллада — я только вчера узнал ее имя — присела на постель и осторожно ерошила мне волосы, шепча: «Мой бедный господин, мой милый». Перевязанной рукой я неловко притянул ее лицо к своему, неожиданно жадно принюхался, как зверь, не верящий счастью добычи, и она поцеловала меня — сперва робко, затем смелее и дольше. Тем временем здоровой рукой я, трепеща, нашел ее прохладную ногу и, путаясь в складках одежды, заскользил вверх по шелковой коже, узнавая ее всю на ощупь, как недавно ослепший. Слезы, запертые военным мужеством, освободились и хлынули, от счастья и боли вместе.
И тогда мой воспаленный слух тронула прозрачная и простая музыка, одна полуфраза мелодии, летящая вверх и вниз, и я вспомнил слово, которое силился сказать столько лет и не умел, немея, которое пытался разглядеть на вазе, снящейся в руках матери, и это был не столько звук речи, сколько музыка, неотделимости которой я прежде не понимал. Вначале я принял ее за первый всплеск лихорадки, но Иоллада тоже встрепенулась, прислушиваясь. Из таблина донеслись тяжелые шаги отца, и она отпрянула, оправляя тунику. Я засуетился встать — ноги не слушались, в голове шумело. Я был взят в плен наивным и неожиданным созвездием звуков, рассыпавшимся в искры в серебристом осеннем воздухе. Вертясь в своем маленьком кольце, туда и обратно, оно сулило постижение и власть. Я вышел на порог, опираясь на плечо девочки-рабыни.
По дороге к дому шли трое в странных одеждах. Впереди высокий и высохший мерно бил в тамбурин; второй, коренастый, с длинными засаленными волосами, играл, раздувая щеки, на двойной греческой флейте. Оба были в колпаках с бубенцами, звенящими в такт их шагу, но слегка запаздывая, отчего в мелодии возникали щемящие сердце перебои. В третьем, шедшем чуть поодаль, я изумленно узнал пропрайтора. Он был без ликторов и щеголеватой тоги, даже не в форменном военном плаще, а в балахоне из мешковины, какого в хорошем доме не наденет последний раб. Его театрально шаркающий шаг дышал смирением.