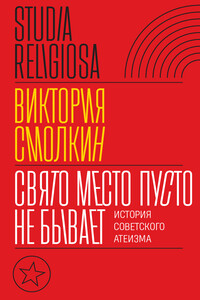Смерть, ритуал и вера. Риторика погребальных обрядов | страница 77
Поэтапное смещение мышления на позицию дивидуальности, а не индивидуальности предлагает нам средства для переосмысления существующих исследований, например работы Маргарет Гибсон об объектах, которые мы наследуем от мертвых. Она называет тела «шифровальными машинами живых и мертвых», что буквально в шаге от идеи «субстанции-кода»[252]. Опять же, идея наследования, довольно близкая идее памяти, вероятно, представляет собой слишком слабый термин для той эмоциональной нагрузки, которая ощущается внутри и через объекты, «принадлежащие» теперь нам, но ранее принадлежавшие нашим умершим. Другими словами, чувство идентичности в разной степени и в разные периоды пронизано закодированной в теле (embodimemt-coded) природой этих «субстанций».
Это поэтапное изменение также влияет на наш анализ слов, фраз или идей, полученных от родителей, поскольку для Марриотта слова или идеи так же претендуют на включение в «субстанцию-код», как и еда. Нередко родители комментируют, что слова, которые они говорят ребенку, напоминают то, что им самим говорили родители, — как будто слышат речь своей матери или отца. Они говорят так: «Я слышала, что говорю, как моя мать» или «Я не мог поверить, что сказал то же самое, что и мой отец». Учитывая основополагающие допущения исследования Мариотта, особенно важность риторики для человеческих отношений, можно сказать, что дивидуальность здесь весьма показательна. Среди многих видевших ценность этого «дивидуального» взгляда на личность были влиятельный кембриджский антрополог Мэрилин Стратхерн[253], археолог Крис Фаулер