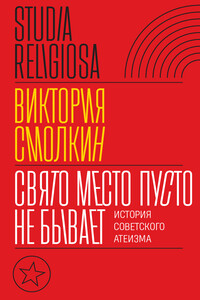Смерть, ритуал и вера. Риторика погребальных обрядов | страница 49
Страх — это в большей степени психологическое понятие, и в контексте смерти оно соотносится с теми же проблемами, которые социологически описывает категория ритуальной нечистоты. Страх в целом часто связан с неопределенностью, которая является угрозой обычному течению жизни и которая ставит вопрос о том, как справляться с проблемой в будущем. Если говорить о смерти, возникает неопределенность относительно произошедшего, относительно того, что будет с мертвым. Если умершие становятся предками, то как они будут обращаться с живыми? Они будут наказывать или благословлять? Существуют свидетельства, что просто вид мертвых или обездвиженных и не реагирующих ни на что членов группы приводит к напряжению в группе, которое напрямую связано со страхом[163].
Эти негативные аспекты ритуальной нечистоты и страха имеют и позитивную сторону, которую наилучшим образом можно обозначить как фертильность. Для многих культур совершенно ясно, что, несмотря на смерть, жизнь продолжается как часть какого-то большего процесса. В главе 5 эта связанность рассматривается на примере индуизма, и не только как переселение душ и реинкарнация, но и как «оплодотворяющая» сила костей, помещенных в реку Ганг, или дым погребального костра, возвращающийся на землю дождем, «оплодотворяющим» землю, превращающимся в растения и производящим семена вновь. В главе 4 мы также обратимся к практике сати: известно, что места сожжения вдов становились локальными центрами, которые посещали бездетные индусы в поисках благословения на деторождение. В христианстве также, как мы покажем в главе 8, могилы мучеников привлекали верующих. Реликвии и центры паломничества активно посещались до времен Реформации, а католические центры и до сегодняшнего дня. Считалось, что тела святых способны исцелять болезни, особенно если они не были подвержены разложению. Святой Кутберт Линдисфарнский, как считалось в средневековом Даремском соборе и одноименном монастыре, например, не только не разложился, но и его тело источало сладкий запах, когда его гроб был вскрыт. Это позитивно оцениваемое «благоухание святости» представляет оппозицию негативно оцениваемому запаху разложения. Морис Блох и Джонатан Пэрри[164] привели множество примеров того, какое отношение эти негативные и позитивные ценности имели к исследованию смерти и возобновлению жизни.
Один аспект «фертильности» во время похорон связан с пищей и относящейся к ней позитивной ценностью как символом выживания и интеграции сообщества. Главный ответ смерти принимает форму поминальной еды. Часто случается так, что после основных похоронных обрядов или кремации присутствующие принимают участие в особого рода торжестве, предполагающем наличие еды и питья. В античной классической литературе Ахиллес, оплакивающий смерть Патрокла, позволяет своим компаньонам «вкусить приятное сердцу погребение»