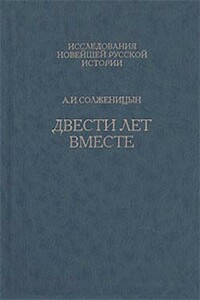История либерализма в России, 1762–1914 | страница 34
Екатерина отдавала себе ясный отчет в том, что для законодательства должны существовать границы. Она знала, что есть такие отношения, которые не только не могут управляться законами, но которые вообще ничем не управляемы. Эту мысль она выразила очень ясно в статьях 59 и 60 инструкции>30. «Законы суть особенныя и точныя установления законоположника, а нравы и обычаи суть установления всего вообще народа». «И так когда надобно сделать перемену в народе великую к великому онаго добру, надлежит законами то исправлять, что учреждено законами, и то переменять обычаями, что обычаями введено. Весьма худая та политика, которая переделывает то законами, что надлежит переменять обычаями». Поскольку все области народной жизни тесно связаны между собой, законы должны принимать во внимание не только нравы и обычаи народа, но также и привычное ему, созданное жизненной действительностью право, то есть законы должны быть приспособлены к тому праву, которое постепенно возникло в процессе истории и которое можно считать правом существующим.
Дело в том, что право такого рода тесно связано с нравами, т. е. с формами быта, на которые нелегко воздействовать путем законов. Поэтому законодательное, регламентирование надо вводить с чрезвычайной осмотрительностью даже там, где оно не противоречит природе вещей. Существующий порядок должен быть гарантирован от произвола правителя. Поэтому всегда надо отдавать предпочтение сохранению старых законов, которые согласованы с другими существующими законами и которые с течением времени скорее всего превращаются в неотъемлемую составную часть существующего порядка, благодаря последующим их толкованиям и применению на практике. В своем Наказе Екатерина предлагает некоторые мероприятия, которые препятствуют отклонению новых законов от уже существующих и тем самым должны служить подданным защитой от произвола правителя даже в том случае, если воля его выражена именно в форме нового закона>31. Тут мы читаем: «Надобно иметь хранилище законов» (статья 22). «Сие хранилище инде не может быть нигде, как в государственных правительствах>32, которые народу извещают вновь сделанные, и возобновляют забвению преданные законы» (статья 23)>33 Общий смысл этих учреждений состоит в том, «чтобы попечением их наблюдаема была воля Государева сходственно с законами, во основание положенными, и с государственным установлением»(статья 28) и чтобы народ был охраняем от «желаний самопроизвольных и от непреклонных прихотей» (статья 29) — тем, что «сии законы… суть делающие твердым и неподвижным установление всякого государства» (статья 21). Для того, чтобы достичь этой общей цели, государственным учреждениям предоставляется право старательно рассмотреть законы, полученные от монарха, и в случае если какой-либо указ найден противоречащим Уложению, то есть основным законам, если он «вреден, темен, что нельзя по оному исполнить» (ст. 21) — на это возражать; более того, учреждениям этим поручалось отказывать в записи тех законов, которые «противны Уложению и прочая» (статьи 24 и 25).