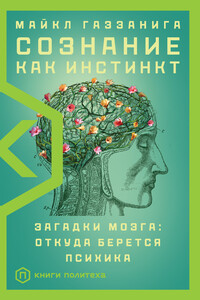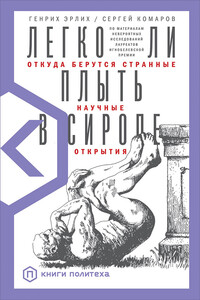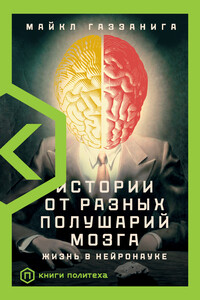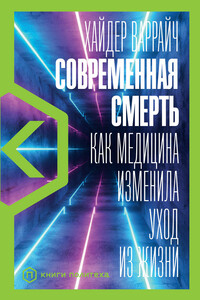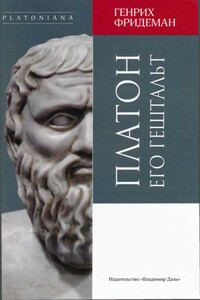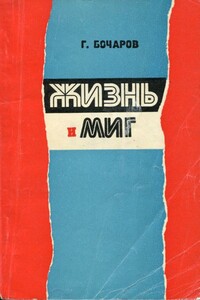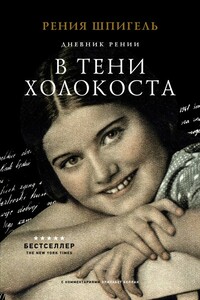Галилей и отрицатели науки | страница 9
Важным новым социально-психологическим элементом конца XVI и начала XVII в. было развитие индивидуализма[15] – представления о том, что человек способен достичь самореализации независимо от социальных условий. Этот новаторский взгляд проявился в самых разных сферах – от приобретения знаний до накопления богатства, от установления нравственных истин до оценки предпринимательского успеха. Индивидуалистическая позиция резко отличалась от ценностей, унаследованных от древнегреческой философии, в которой люди рассматривались главным образом как члены большего сообщества, а не как индивиды. Например, целью “Государства” Платона было дать определение и способствовать построению идеального общества, а не более совершенного человека.
В Средние века укоренению индивидуализма препятствовали действия католической церкви, руководствовавшейся тем принципом, что истины и этические нормы определяются религиозными советами “мудрецов”, а не опытом, размышлениями или мнениями вольнодумцев. Эта догматическая жесткость дала трещину с появлением протестантского движения, восставшего против установки о непогрешимости этих советов. Идеи, продвигаемые в ходе последовавшей Реформации, проникли в другие сферы культуры. Война велась не только на поле боя и в пропагандистских памфлетах, листовках и трактатах, но и в творениях таких художников, как Лукас Кранах Старший, противопоставивший протестантское христианство католическому. Отчасти именно проникновение индивидуалистических убеждений в философию обусловило возможность феномена Галилея. Те же идеи позднее безоговорочно поставил во главу угла французский философ Рене Декарт, утверждавший, что мысли индивида есть лучшее доказательство его существования (“Я мыслю, следовательно, я существую”).
Кроме того, появилась новая технология – печатание, – сделавшая возможным как доступ индивида к знанию, так и стандартизацию информации. Изобретение наборного шрифта[16] и типографского пресса в Европе середины XV в. имело колоссальные последствия. Грамотность вдруг перестала быть привилегией богатой элиты, и распространение информации и знаний посредством печатных книг неуклонно увеличивало число образованных людей. Но это было еще не все. Поскольку больше людей из разных слоев общества теперь подвергались воздействию одних и тех же книг, сформировался новый информационный фундамент и возникло более демократическое образование. В XVII в. студенты, изучавшие ботанику, астрономию, анатомию или даже Библию, скажем, в Риме, могли учиться по тем же текстам, что и их сверстники в Венеции или Праге.