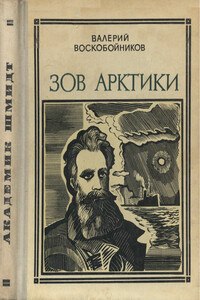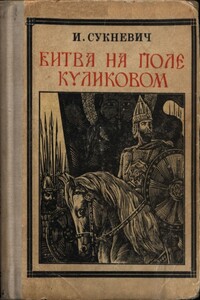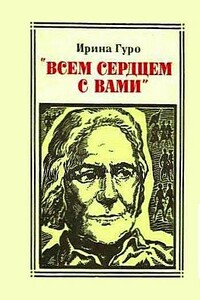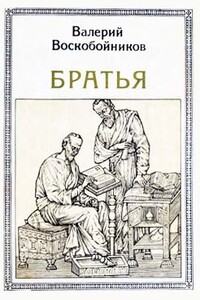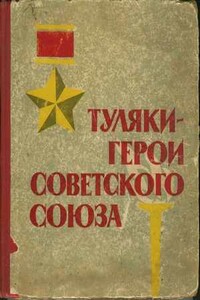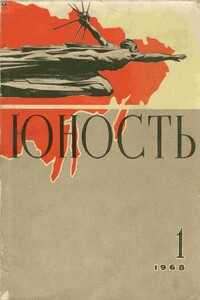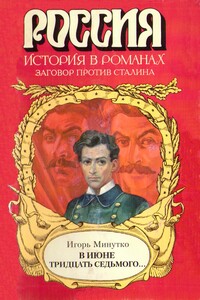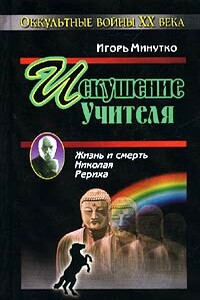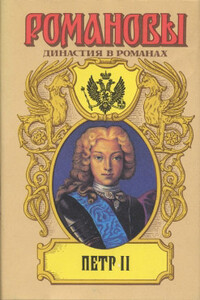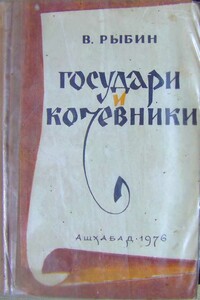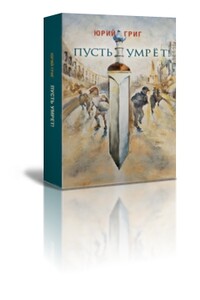Три жизни: Кибальчич | страница 23
Четвертого апреля 1866 года Дмитрий Каракозов, член террористической группы Ишутина (идея индивидуального террора уже тогда пустила корни в революционной молодежной среде), решает самостоятельно, без ведома организации, убить Александра Второго. Он встречает царя у ворот Летнего сада, стреляет из револьвера, но промахивается. Дмитрий Каракозов на дознании был подвергнут пыткам, но никого из своих товарищей не выдал, от убеждений не отказался. Повешен в Петербурге на Смоленском поле…
В 1869 году в Петербурге группой студентов Медико-хирургической академии создается кружок, который с лета 1871 года после объединения с женским кружком сестер Корниловых и Софьи Перовской стал называться «Большим обществом пропаганды», или кружком чайковцев — по имени студента Петербургского университета, активного члена новой организации, Николая Чайковского. В это время Николай Кибальчич в Петербурге, студент: с августа 1871 года он занимается в Институте инженеров путей сообщения, с сентября 1873 года — слушатель Медико-хирургической академии.
Вначале чайковцы изучают современные социалистические теории, издают за границей произведения Чернышевского, Добролюбова, Лаврова, труд Карла Маркса «Гражданская война во Франции» (О Парижской коммуне), ведут активную пропаганду среди городских рабочих и студентов. К концу 1873 года в среде чайковцев возникает идея массового похода пропагандистов в народ, которая весной следующего года определяется окончательно.
«Хождение в народ»… Вот уж, воистину, феномен русской истории и одновременно проявление русского национального характера, «русской совести» нашей интеллигенции, выпестованной двумя веками мучительной отечественной истории. Не забудем, что этот, теперь ставший интернациональным, термин появился в России: он был введен в литературу шестидесятых годов писателем Петром Дмитриевичем Боборыкиным, притом в понятие «интеллигенция», «интеллигент» вкладывался не только социальный, но и нравственный смысл.
В народ! Нести знания, передовые идеи, пробудить к активной свободной жизни убогих и сирых, задавленных нуждой и невежеством. Сначала сотни, а потом тысячи молодых людей откликнулись на этот призыв: интеллигенты-разночинцы, дети сельских священников, городских мещан и чиновников, выходцы из дворянских семей, студенты, гимназисты старших классов.
Один из участников этого доселе неизвестного мировой истории похода, С. М. Степняк-Кравчинский, писал: «Ничего подобного не было ни раньше, ни после. Казалось, тут действовало скорей какое-то откровение, чем пропаганда… Точно какой-то могучий клик, исходивший неизвестно откуда, пронесся по стране, призывая всех, в ком была живая душа, на великое дело спасения родины и человечества. И все, в ком была живая душа, отзывались на этот клик, исполненные тоски и негодования на свою прошлую жизнь, и, оставляя родной кров, богатства, почести, семью, отдавались движению с тем восторженным энтузиазмом, с той горячей верой которая не знает препятствий, не меряет жертв и для которой страдания и гибель являются самым могучим непреодолимым стимулом к деятельности…»