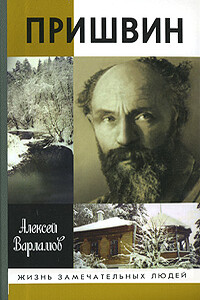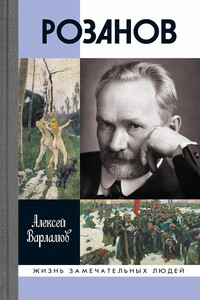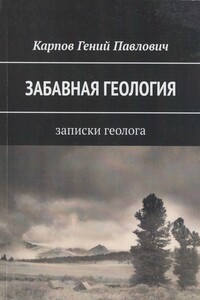Алексей Толстой | страница 56
И тогда, и позднее.
«Его рисовали неистощимым весельчаком, неиссякаемым балагуром, изображали в гиперболизированном облике некоего барина-хлебосола, восседающего за пиршественным столом и окруженного ожерельем тарелок и бутылок с напитками — чуть ли не Гаргантюа из старого патриархального Заволжья!» — писал А. Алпатов>{123}.
Бунин насмешничал в «Третьем Толстом»:
«Толстой — и «масса» вопросов, да еще «новых»! Значит, и прежде осаждала его, несчастного, «масса» каких-то вопросов. А тут явились еще и новые, а кроме того «мучительные загадки». Лично я не раз бывал свидетелем того, как мучили его вопросы и загадки, где бы, у кого бы сорвать еще что-нибудь «в долг» на портного, на обед в ресторане, на плату за квартиру, но иных не помню»>{124}.
Читать бунинский очерк — одно удовольствие. Пожалуй, никто из писавших о Толстом не сделал это так талантливо, ярко, убедительно, так образно и… несмотря на все выпады, с такой любовью. Но только бунинский «третий Толстой» — это именно бунинский Толстой, его герой, его персонаж. Реальный Алексей Николаевич Толстой был фигурой куда более сложной и в молодости, и в зрелые годы, и вопросы его тревожили, и загадки мучили, но маски беззаботного успешливого весельчака он не снимал, хотя в отличие от своего любимого деревянного мальчика школой не пренебрегал и в годы литературной молодости вел себя как образцовый ученик. Он расширял завоеванный плацдарм, заводил новые литературные знакомства и учился, учился, учился…
«Многоуважаемый Валерий Яковлевич, очень, очень я рад еще раз слышать от Вас мнение о стихах моих. Сознаюсь, мне было страшно свеситься на чаше весов Ваших, но теперь я еще сильнее укрепился в той исходной точке творчества, которая намечалась всегда и независимо от моих хотений»>{125}, — писал он Брюсову незадолго до того, как в январских «Весах» за 1909 год были напечатаны его стихи.
Через Волошина он познакомился с Иннокентием Анненским, которому исповедовался:
«К мистикам причислить себя не могу, к реалистам не хочу, но есть бессознательное, что стоит на грани между ними, берет образ и окрашивает его не мистическим, избави Бог, отношением, а тем, чему имени не знаю…
Помню только, что 2,5 года тому назад, когда я начал писать стихи, было желание уверовать в Бога или хоть в черта, во что-нибудь непонятное, чтобы видеть не отсветы закатного солнца в облаках, а края ризы или пролитое вино и т. д.»>{126}.
Благодаря Волошину Толстой познакомился также и с А. М. Ремизовым и докладывал своему литературному опекуну Максу: «Приняли меня очень хорошо, Алексей Михайлович сразу взял меня в ученики и обругал и обхвалил, сказки приняты и будут печататься в «Тропинке», в «Русской мысли», печатают что-то, но все это какой-то — еще не знаю какой — разврат, одно чувствую, что есть во всем этом нехорошее, что не позволяет мне писать стихи…»