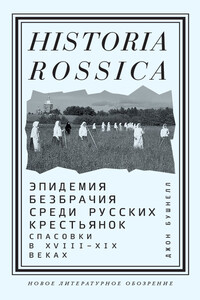История социологической мысли. Том 2 | страница 77
Следует обратить особое внимание на то, что социология была для Томаса наукой о социальных ценностях, стало быть, она не должна была заниматься всем тем, что описывали как социальную реальность Конт, Маркс, Спенсер или Дюркгейм. Ее должны были интересовать исключительно те аспекты этой реальности, которые в данный момент и в данной группе приобретают значение благодаря относящимся к ним человеческим установкам. Другие аспекты социальной реальности – вопрос других наук, которые изучают явления, не являющиеся сами по себе социальными явлениями. Социологов интересует исключительно та действительность, которая существует для людей. «Если люди, – напишет Томас позже, – определяют ситуации как реальные, то они реальны по своим последствиям»[230]. Знанецкий будет развивать свою концепцию гуманистического коэффициента.
Так же как и личность, социальная организация интересовала Томаса с точки зрения не структуры, а процесса. «‹…› стабильность институтов данной группы, – читаем мы в «Польском крестьянине», – является просто динамическим равновесием процессов дезорганизации и реорганизации»[231]. Социологическая теория Томаса и Знанецкого была не столько теорией социальной организации, сколько теорией социального изменения. В «Методологических заметках» это направление интереса заслужило звание научного принципа: «Метод, который позволяет нам определять лишь случаи стереотипной деятельности и оставляет нас беспомощными перед лицом изменившихся условий, вовсе не научен и становится все менее и менее практически полезным по мере возрастания изменчивости в современной социальной жизни»[232].
Социальное изменение было для Томаса, так же как для всех современных ему авторов, изменением в определенном направлении. А именно, он писал об «‹…› эволюции, связанной с техническими изобретениями, упрощенной коммуникацией, распространением печати, развитием городов, экономической организации, капиталистической системы, профессиональной специализации, научных исследований, идеи свободы, эволюционного взгляда на жизнь и т. д.»[233]. С точки зрения процесса адаптации эта эволюция означала прогрессирующую индивидуализацию, проистекающую из того, что индивид имеет дело со множеством разных систем правил, со множеством разных определений ситуаций, ни одно из которых не имеет такой обязывающей силы, какую имели и имеют правила первичной группы.
Более всего, однако, Томаса интересовало не направление, а механизм изменения. Главный вопрос касался того, что ведет к деструкции господствующей системы правил и возникновению новой, то есть как происходит