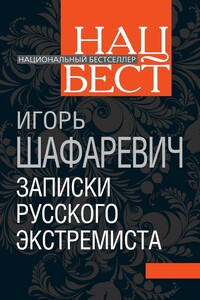Русский народ в битве цивилизаций | страница 36
Каков же был тот идеологический барьер, который их разделял, за что шла борьба? Легко убедиться, что на XIII, XIV и XV съездах «оппозиции», хотя состоявшие из разных лиц, высказывали примерно одну и ту же систему взглядов.
Их требования были таковы. Прежде всего, ускорение темпов индустриализации («сверхиндустриализация», по Троцкому). Но где взять для этого капитал? Ответ был: индустриализация должна быть проведена за счет крестьянства. Близкий единомышленник Троцкого Преображенский построил даже по этому поводу стройную теорию «социалистического первоначального накопления». Он напоминает «основные методы капиталистического первоначального накопления»: «грабеж некапиталистических форм хозяйства», одной из форм которого является «колониальная политика». «Сюда же относятся все методы насилия и грабежа по отношению к крестьянскому населению метрополий. Наиболее типичными методами являются: грабеж крепостных крестьян сеньорами <…> и налоговое обложение крестьян государством». В заключение этого экскурса приводится цитата из Маркса: «Эти методы в значительной мере покоятся на грубейшем насилии» вплоть до знаменитого восхваления насилия как «повивальной бабки всякого старого общества, когда оно беременно новым». После такого обзора автор переходит к положению «в период первоначального социалистического накопления». Он сразу отметает «колониальный грабеж» как недопустимый для социалистического государства. (Интересно было бы понять — почему? Люди были решительные, убежденные материалисты, сторонники «классовой морали». Почему для них ограбление деревни было «допустимым», а «колоний» — нет?) «Совсем иначе обстоит дело с отчуждением в пользу социализма части прибавочного продукта из всех досоциалистических форм. Обложение досоциалистических форм <…> неизбежно должно получить огромную, прямо решающую роль в таких крестьянских странах, как Советский Союз», — формулирует Преображенский. Более того, «страна должна будет пройти период первоначального накопления, очень щедро черпая из источников досоциалистических форм хозяйства» (13).
Так как программа апеллировала к «повивальной бабке истории» — насилию, а опыт крестьянской войны был еще свеж, то заранее готовилась новая атака на деревню. Так же как крестьянская война называлась войной «против кулаков и бандитов», так и возбуждаемая «оппозициями» агрессивность по отношению к крестьянству формально адресовалась «кулакам». Если не понимать этой логики «переадресованной агрессии», то есть попросту замены слова «крестьянство» на «кулак», то ситуация кажется совершенно нелепой. Вожди государства заинтересованы в индустриализации. Капитал для нее получается продажей хлеба за границу. Подавляющую часть товарного хлеба дают зажиточные крестьянские хозяйства (те, кто в более узком смысле назывался «кулаками»). Казалось бы, их-то и надо поддерживать. Но государство, наоборот, с ними борется, а оппозиция понукает его бороться еще энергичнее. Всеми мерами — и экономическими, и политическими — зажиточные крестьяне выталкиваются из жизни. В результате деревня, очевидно, должна обеднеть и давать меньше хлеба и, значит, капитала для индустриализации. При этом никакой политической опасности для власти ни зажиточные крестьяне («кулаки»), ни крестьяне вообще не представляли: тогда не было ни малейших следов какой-либо попытки их организации.