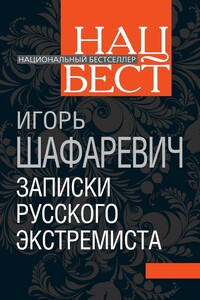Русский народ в битве цивилизаций | страница 31
Другое восстание, даже большего масштаба и приблизительно в то же время, происходило в Западной Сибири: в Тюменской губернии и в частях Челябинской, Екатеринбургской, Омской губерний. Восстание началось в январе 1921 года. Была проведена мобилизация и создана армия численностью около 100 тысяч человек. Повстанцы захватили многие крупные города, в частности Тобольск, где выпускали свою газету. Против них были брошены крупные части. В основном восстание было подавлено к апрелю 1921 года. Террор против участников восстания имел все типичные для того времени черты. Сохранились дела по обвинению несовершеннолетних (15–17 лет) в «службе у бандитов» (например, как сестры милосердия). Историк, работавший в архивах Тобольска, видел надписи, сделанные детским почерком на больших листах: «Не убивайте нас!» Такие листы вывешивались в деревнях, когда в них вступали коммунистические карательные отряды.
Мы пытались лишь пунктирно очертить контуры крестьянской войны. Не упомянуты здесь махновское крестьянское движение, длившееся три года на Украине, громадное крестьянское восстание в Карелии в 1921 году и многое другое. Главное — Крестьянская война шла по всей России все три года после Октябрьской революции. Ленин признал, что «крестьянские восстания <…> представляют общее явление для России». В результате Ленин вынужден был констатировать, что продолжение политики «военного коммунизма» «означало бы наверняка крах советской власти и диктатуры пролетариата». Ленин, писавший раньше: «…мы скорее ляжем все костьми», чем разрешим свободную торговлю хлебом, вынужден был провозгласить «отступление» — нэп. Крестьянство не «выиграло» Крестьянскую войну, не установило своей власти, но «отбилось» от противника.
Выиграть войну в тех условиях крестьянство и не могло. На это рассчитывал и Ленин. Он говорил Г.Уэллсу: «…«Крестьяне других губерний, неграмотные и эгоистичные, не будут знать, что происходит, пока не придет их черед… Может быть, и трудно перестроить крестьянство в целом, но с отдельными группами крестьян справиться очень легко». Говоря о крестьянах, Ленин наклонился ко мне и перешел на конфиденциальный тон, как будто крестьяне могли его услышать» (12).
Но почему это безумие продолжалось три года? Почему Ленин, умевший просчитывать на столько ходов вперед, придумывать такие нетривиальные ходы, не увидел самую простейшую истину: что физически невозможно обирать крестьянство, обрекая его на голодную смерть, когда крестьянство составляет 4/5 населения страны? Да и то, что с крестьянством погибнет от голода оставшаяся 1/5 населения. Почему этого не увидело окружение Ленина, состоявшее из далеко не глупых людей (хотя некоторые, осторожные, предупреждения были)? Почему вместо ленинских телеграмм, призывающих к строгости, свирепости, беспощадности, не слались другие, напоминающие, что, если мужики перемрут, есть всем будет нечего? Ведь неправильно представлять себе крестьян того времени как анархическую стихию, вышедшую из берегов, которую любыми средствами надо было ограничить, чтобы спасти страну. Такую точку зрения высказал, например, Ленин Горькому: «Ну, а по-вашему, миллионы мужиков с винтовками в руках не угроза культуре, нет? Вы думаете, Учредилка могла бы справиться с их анархизмом? Вы, который так много — и так правильно — шумите об анархизме деревни, должны бы лучше других понять нашу работу».