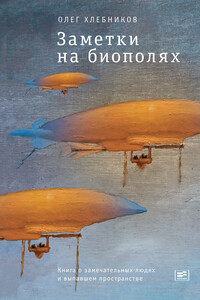Проза Александра Солженицына. Опыт прочтения | страница 33
(одолевшего, казалось бы, неизбежное забвение) рассказа перекликается с его зачином: поведать о русской праведнице (и тем самым сохранить ее праведность) дано только русскому писателю.
Отсюда неожиданная литературность рассказа, заявленная уже таинственной «увертюрой», строй и композиционная роль которой совершенно несхожи с начальными фрагментами других рассказов Солженицына конца 1950 — начала 1960-х гг. Читатель «Одного дня Ивана Денисовича» сразу же вводится в какое-то неведомое, но, без сомнения, страшное пространство: «В пять часов утра, как всегда, пробило подъём — молотком об рельс у штабного барака» (15). Никаких предисловий и подводок здесь быть не может, лагерные реалии возникают раньше, чем прямое указание на место действия, фамилию главного героя мы узнаем до того, как он как-то себя проявит. Тот же прием немедленного погружения в реальность (конкретные черты которой будут представлены позднее) употреблен в рассказах «Случай на станции Кочетовка» и «Для пользы дела», закономерно открывающихся репликами еще не названных персонажей: «Алё, это диспетчер?»; «…Ну, кто тут меня?.. Здравствуйте, ребятки! Кого еще не видела — здравствуйте, здравствуйте!» (159, 210). Отождествить Ивана Денисовича с автором «Одного дня…» мог только очень простодушный читатель. Читатель, сколь угодно изощренный (посвященный в тонкости литературной теории, прекрасно знающий о дистанции меж собственно автором и нарратором), должен был угадать в рассказчике «Матрёнина двора» писателя (насколько это в принципе возможно — близкого реальному автору). Писатель этот предстает законным наследником той великой литературы, что некогда открыла (как теперь Игнатьич — Матрёну) особую стать русского мира, русского человека и русской истории.
Путь Игнатьича к пониманию Матрёны не менее важен, чем открывающаяся в финале человеческая суть героини. Металитературность «Матрёнина двора» (кроме прочего, это рассказ о том, как складывался рассказ) глубоко укоренена в национальной литературной традиции (начиная с «Бедной Лизы», «Евгения Онегина» и «Мертвых душ»). Рассказываться такая история может только на том языке, что был — во всем своем разнообразии — сформирован традицией, но оказался в новой социальной реальности чужим, погребенным в прошлом, дозволенным в хрестоматиях, но ненужным для современной литературы. Солженицын сложным образом восстанавливает этот язык в правах — отсюда густота и значимость литературных реминисценций, по-разному корреспондирующих со своими источниками, явленных с разной мерой отчетливости (иные должны распознаваться читателем, иные — одаривать беглыми ассоциациями), но неотъемлемо входящих в поэтическую ткань рассказа. Некоторые отсылки к русской классике прежде не фиксировались, другие были отмечены исследователями, но получили неполные или неточные истолкования, что, на мой взгляд, связано с установкой на интерпретацию отдельных реминисценций, складывающихся у Солженицына в сложную систему, ориентированную на «целое» русской словесности.