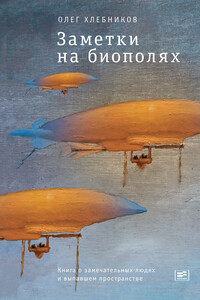Проза Александра Солженицына. Опыт прочтения | страница 30
Только машинисты знали и помнили, отчего это всё.
Да я.
(116)
Так вводится тема особой связи рассказчика (о котором читатель пока ничего не знает) и какого-то, еще неведомого, происшествия, метонимически предваряющая тему особого отношения рассказчика к героине (еще не появившейся, но названной в заголовке). По мере движения рассказа тема эта постоянно усиливается:
Но я уже видел, что жребий мой был — поселиться в этой темноватой избе… (встреча, определившая не только ближайшее будущее рассказчика, но и самое рождение рассказа — А. Н.).
(119)
Так привыкла Матрёна ко мне, а я к ней, и жили мы запросто. ‹…›
А я тоже видел Матрёну сегодняшнюю, потерянную старуху, и тоже не бередил её прошлого, да и не подозревал, чтоб там было что искать[32].
(130)
Так в тот вечер (после визита Фаддея и исповеди героини. — А. Н.) открылась мне Матрёна сполна.
(135)
И только тут — из этих неодобрительных отзывов золовки — выплыл передо мною образ Матрёны, какой я не понимал её, даже живя с нею бок о бок.
(147)
Это — посмертное и последнее — открытие Матрёны (готовящее обобщающий пословичный финал рассказа) объясняет означенный последней строкой зачина исключительный характер памяти рассказчика. Хотя золовка погибшей праведницы отзывается о ней неприязненно, у нас нет оснований предполагать, что эти чувства разделяют