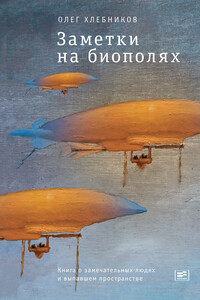Проза Александра Солженицына. Опыт прочтения | страница 20
Нет нужды перечислять здесь все добрые свойства, которыми наделил Солженицын своего злосчастного двойника. Конечно, убежденность Зотова в том, что «прямой долг его совести» зафиксировать все отмечаемые каждодневно «недостатки» в докладной Наркомату обороны (171) и его мечта проработать «Капитал» (177) должны вызывать у читателя грустную улыбку. Но и эти завихрения не дискредитируют героя: наивность помыслов не отменяет стоящей за ними заботы об общем благе (освоив «первоисточник», Зотов сможет лучше выполнять свои обязанности). Есть у Васи и особенности душевного строя, что, пожалуй, поднимают помощника коменданта над большинством его ровесников. Зотов не только вознамеривается обеспечить продовольствием голодающих одиннадцать дней солдат из команды Дыгина, но и, убедившись в химерности своего замысла, решается отцепить их вагон от «хорошего» эшелона, то есть ради людей нарушает (не без риска) установленные правила (189). Зотов буквально сразу — по «богатому», но «благородно-сдерживаемому голосу» и «симпатичной, душу растворяющей улыбке» — угадывает особенную (и притягательную!) стать Тверитинова (188, 189). Дальше — до роковой реплики — сердечное чувство Зотова к чудаку-окруженцу только усиливается, хотя оснований для недоверия (за которым непреложно должно последовать задержание) тот предоставляет с избытком. Больше того, Зотов угадывает тот мир, с которым связан пришедший просить помощи артист. Глядя на фотографии семьи Тверитинова (как прежде проникаясь его голосом и улыбкой), помощник коменданта переносится в то духовно-смысловое пространство, от которого сохранились при советской власти немногие осколки. «И вообще, все они в семье были какие-то отборные. Самому Зотову никогда не приходилось бывать в таких семьях, но мелкие засечки памяти то в Третьяковской галерее, то в театре, то при чтении незаметно сложились в понятие, что такие семьи есть. Их умным уютом пахнуло на Зотова с двух этих снимков» (196). Милосердное расставание с Дыгиным и первая реакция на странного (еще не назвавшегося) посетителя не случайно происходят одновременно. В эти мгновения мы твердо убеждаемся: у Васи Зотова есть сердце. Но, как выяснится дальше, слабое, не способное защитить Васю от власти очков и не снимаемой в служебном помещении «зеленой фуражки» (Солженицын предполагал дать рассказу такое название).
Всем Зотов хорош, но нет у него тех простых и взаимосвязанных свойств, которыми держится и побеждает Иван Денисович: способности видеть окружающий мир и самых разных людей такими, каковы они есть, естественного и твердого различения добра и зла, доверия к собственной душе.