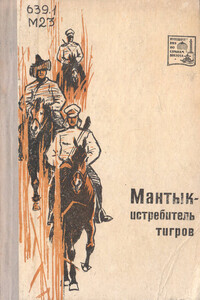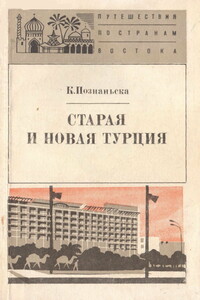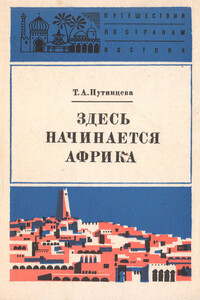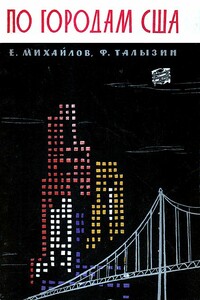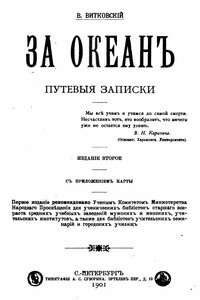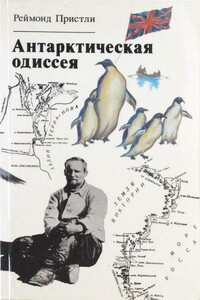По Индии и Цейлону | страница 46
Достаточно сделать несколько взмахов сачком — и комары, главным образом кулекс и аэдес, уже в нем. В этих районах встречается и переносчик малярии — анофелес-гамби.
Чтобы добраться до следующего селения, нужно проехать сквозь сплошные заросли джунглей.
Около Меттапелайяме остановка. Здесь, в домике с террасами, лаборатория. Вся освещенная солнцем часть террасы заставлена эмалированными тазами с этикетками на дне. В воде тысячи зеленоватых личинок комаров анофелес. В других тазах темно-серые личинки аэдес, висящие под острым углом. Как только на них падает тень подошедшего к тазам человека, они мгновенно устремляются на дно. Над тазами с куколками и окрыленными комарами поставлены сетки с металлическими каркасами.
За столом студент-медик увлеченно рассказывает санитарам-индийцам о строении хоботка комара анофелес. Под бинокулярной лупой он демонстрирует им две желобчатые длинные пластинки — верхнюю и нижнюю губу. Между ними заметны пять стерженьков. Один из них язык, остальные четыре — пара верхних челюстей (мандибул), имеющих вид острых ножей, и пара нижних (максилл), оканчивающихся пилками.
— У человека, — объясняет студент, — наоборот: верхняя названа максиллой, а нижняя — мандибулой.
— Кто же их перепутал? — спрашивают удивленные слушатели.
— Анатомы. Названия частей и органов человеческого тела они нередко заимствовали у зоологов. В средние века, когда за вскрытие трупа врачу грозил костер, они изучали трупы ночью на кладбищах, извлекая из гробов захороненных покойников. Работая в такой обстановке, нетрудно было ошибиться.
Мохан и Карпентер знакомят меня с экспериментом, который проводится, чтобы изучить устойчивость некоторых комаров к растворам ДДТ. Как правило, эти растворы даже в самых небольших концентрациях убивают их, но существуют виды, легко «привыкающие» и к сильным концентрациям.
Обилие личинок и окрыленных комаров позволяет ставить многочисленные опыты. Невосприимчивость к ДДТ у комаров и мух при частом применении малых концентраций яда повышается в 1800 раз.
— Важное значение, — замечаю я, — приобретает также изучение вопроса об устойчивости к препаратам не только насекомых, но и бактерий. Применение пенициллина, стрептомицина и иных антибиотиков обязывает нас знать, при каких дозах микробы-возбудители к ним «привыкают», а при каких погибают. Эту проблему успешно решают советские ученые В. Д. Тимаков, X. X. Планельес и др.
— Мы слышали об их исследованиях, но самих работ не читали. Хорошо было бы перевести их труды на английский язык. К сожалению, у нас не многие читают по-русски.