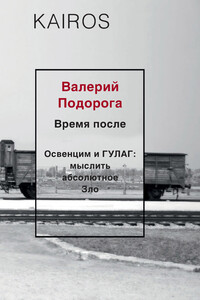Вопрос о вещи. Опыты по аналитической антропологии | страница 16
15. Прозрачность и призрачность
В акте зрения П. Флоренский различает две чувственные функции (отчасти противостоящие, и тем не менее неотделимые друг от друга): осязательную и зрительную, тем самым указывает на порядок изначального чувственного опыта. Чтобы ясно видеть, необходимо забыть о том, что входит в состав зрительного акта в качестве посредника и в момент зрения нами не ощущается. И этим ускользающим от «знания» посредником будет наше тело. Нужно иметь тело, чтобы видеть, необходимо двигаться, мигрируя из одной точки к другой, из одного слоя к другому, находиться в постоянном колебании всех наших телесных микродвижений, чтобы быть существом воспринимающим.
Когда мы рассматриваем прозрачное тело, имеющее значительную толщину, например аквариум с водой, стеклянный сплошной куб (чернильницу) и прочее, то сознание чрезвычайно тревожно двоится между различными по положению в нём (сознании), но однородными по содержанию (и в этом-то последнем обстоятельстве – источник тревоги) восприятиями обеих граней прозрачного тела. Тело качается в сознании между оценкой его как нечто, т. е. тела, и как ничто, зрительного ничто, поскольку оно прозрачно. Ничто зрению, оно есть нечто осязанию; но это нечто преобразовывается зрительным воспоминанием во что-то как бы зрительное. Прозрачное – призрачно.
Сквозящая зелень весенних рощ будит в сердце тревогу вовсе не только потому, что появляется «раннею весною», но и просто по оптической причине – своей прозрачности, давая стереоскопическую глубину пространства своими точечными листочками, хотя бы вовсе не «клейкими». Эта зелень намечает глубинные точки пространства и, будучи густо распределённою, делает это с достаточной психологической принудительностью. От этого всё пространство, овеществляясь, получает зрительно характер стекловидной толщи>35.
Когда Флоренский описывает «сквозящую зелень весенних рощ» и все им ощущаемые, точнее, боковым зрением фиксируемые слои пространства, получающие свойства стекловидной толщи, он, по сути дела, оперирует собственным чувственным телом, периферийным по отношению к взгляду, но неустранимым из него, и опирается на присущий ему осязательно-зрительный ритм… Действительно, ведь переход от осязательной функции к зрительной оказывается процессом утончения чувства осязания: «…если уж есть в нас способность осязать, то это есть зрение, а орган осязания – глаз. Из всех органов ему принадлежит наибольшая способность браться за вещи активною пассивностью – трогать их, не искажая, не вдавливая, не сминая»